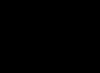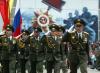В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею; детей у них не было. Стали они бога молить, чтоб создал им детище во младости на поглядение, а под старость на покормление; помолились, легли спать и уснули крепким сном.
Во сне им привиделось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в том пруде златопёрый ёрш плавает, коли царица его скушает, сейчас может забеременеть. Просыпaлись царь с царицею, кликали к себе мамок и нянек, стали им рассказывать свой сон. Мамки и няньки так рассудили: что во сне привиделось, то и наяву может случиться.
Царь призвал рыбаков и строго наказал поймать ерша златопёрого.
На заре пришли рыбаки на тихий пруд, закинули сети, и на их счастье с первою ж тонею попался златопёрый ёрш. Вынули его, принесли во дворец; как увидала царица, не могла на месте усидеть, скоро к рыбакам подбегала, за руки хватала, большой казной награждала; после позвала свою любимую кухарку и отдавала ей ерша златопёрого с рук на руки.
На, приготовь к обеду, да смотри, чтобы никто до него не дотронулся.
Кухарка вычистила ерша, вымыла и сварила, помои на двор выставила; по двору ходила корова, те помои выпила; рыбку съела царица, а посуду кухарка подлизала.
И вот разом забрюхатели: и царица, и её любимая кухарка, и корова, и разрешились все в одно время тремя сыновьями: у царицы родился Иван-царевич, у кухарки - Иван, кухаркин сын, у коровы - Иван Быкович.
Стали ребятки расти не по дням, а по часам; как хорошее тесто на опаре поднимается, так и они вверх тянутся. Все три молодца на одно лицо удались, и признать нельзя было, кто из них дитя царское, кто - кухаркино и кто от коровы народился. Только по тому и различали их: как воротятся с гулянья, Иван-царевич просит бельё переменить, кухаркин сын норовит съесть что-нибудь, а Иван Быкович прямо на отдых ложится.
По десятому году пришли они к царю и говорят:
Любезный наш батюшка! Сделай нам железную палку в пятьдесят пудов.
Царь приказал своим кузнецам сковать железную палку в пятьдесят пудов; те принялись за работу и в неделю сделали. Никто палки за один край приподнять не может, а Иван-царевич, да Иван, кухаркин сын, да Иван Быкович между пальцами её повертывают, словно перо гусиное.
Вышли они на широкий царский двор.
Ну, братцы, - говорит Иван-царевич, - давайте силу пробовать; кому быть бoльшим братом.
Ладно, - отвечал Иван Быкович, - бери палку и бей нас по плечам.
Иван-царевич взял железную палку, ударил Ивана, кухаркина сына, да Ивана Быковича по плечам и вбил того и другого по колена в землю. Иван, кухаркин сын, ударил - вбил Ивана-царевича да Ивана Быковича по самую грудь в землю; а Иван Быкович ударил - вбил обоих братьев по самую шею.
Давайте, - говорит царевич, - ещё силу попытаем: станем бросать железную палку кверху; кто выше забросит - тот будет больший брат.
Ну что ж, бросай ты!
Иван-царевич бросил - палка через четверть часа назад упала, а Иван Быкович бросил - только через час воротилась.
Ну, Иван Быкович, будь ты большой брат.
После того пошли они гулять по саду и нашли громадный камень.
Ишь какой камень! Нельзя ль его с места сдвинуть? - сказал Иван-царевич, упёрся в него руками, возился, возился - нет, не берет сила.
Попробовал Иван, кухаркин сын, - камень чуть-чуть подвинулся. Говорит им Иван Быкович:
Мелко же вы плаваете! Постойте, я попробую.
Подошёл к камню да как двинет его ногою - камень ажно загудел, покатился на другую сторону сада и переломал много всяких деревьев. Под тем камнем подвал открылся, в подвале стоят три коня богатырские, по стенам висит сбруя ратная: есть на чём добрым мoлодцам разгуляться!
Тотчас побежали они к царю и стали проситься:
Государь-батюшка! Благослови нас в чужие земли ехать, самим на людей посмотреть, себя в людях показать.
Царь их благословил, на дорогу казной наградил; они с царём простились, сели на богатырских коней и в путь-дорогу пустились. Ехали по долам, по горам, по зелёным лугам и приехали в дремучий лес; в том лесу стоит избушка на курячьих ножках, на бараньих рожках, когда надо - повёртывается.
Избушка, избушка, повернись к нам передом, к лесу задом; нам в тебя лезти, хлеба-соли ести.
Избушка повернулась. Добрые молодцы входят в избушку - на печке лежит баба-яга костяная нога, из угла в угол, нос в потолок.
Фу-фу-фу! Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано; нынче русский дух на ложку садится, сам в рот катится.
Эй, старуха, не бранись, слезь-ка с печки да на лавочку садись. Спроси: куда едем мы? Я добренько скажу.
Баба-яга слезла с печки, подходила к Ивану Быковичу близко, кланялась ему низко:
Здравствуй, батюшка Иван Быкович! Куда едешь, куда путь держишь?
Едем мы, бабушка, на реку Смородину, на калиновый мост; слышал я, что там не одно чудо-юдо живёт.
Ай да Ванюша! За дело хватился; ведь они, злодеи, всех приполонили, всех разорили, ближние царства шаром покатили.
Братья переночевали у бабы-яги, поутру рано встали и отправились в путь-дорогу. Приезжают к реке Смородине; по всему берегу лежат кости человеческие, по колено будет навалено! Увидали они избушку, вошли в неё - пустехонька, и вздумали тут остановиться.
Пришло дело к вечеру. Говорит Иван Быкович:
Братцы! Мы заехали в чужедальнюю сторону, надо жить нам с осторожкою; давайте по очереди на дозор ходить.
Кинули жребий - доставалось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, другую - Ивану, кухаркину сыну, а третью - Ивану Быковичу. Отправился Иван-царевич на дозор, залез в кусты и крепко заснул. Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь - он тотчас готов был, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост.
Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы закричали - выезжает чудо-юдо шестиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Говорит чудо-юдо шестиглавое:
Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, а ты, песья шерсть, ощетинилась? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он, добрый молодец, ещё не родился, а коли родился - так на войну не сгодился; я его на одну руку посажу, другой прихлопну - только мокренько будет!
Выскочил Иван Быкович:
Не хвались, нечистая сила! Не поймав ясна сокола, рано перья щипать; не отведав добра молодца, нечего хулить его. А давай лучше силы пробовать: кто одолеет, тот и похвалится.
Вот сошлись они - поравнялись, так жестоко ударились, что кругом земля простонала. Чуду-юду не посчастливилось: Иван Быкович с одного размаху сшиб ему три головы.
Стой, Иван Быкович! Дай мне роздыху.
Что за роздых! У тебя, нечистая сила, три головы, у меня всего одна; вот как будет у тебя одна голова, тогда и отдыхать станем.
Снова они сошлись, снова ударились; Иван Быкович отрубил чуду-юду и последние головы, взял туловище - рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а шесть голов под калиновый мост сложил. Сам в избушку вернулся. Поутру приходит Иван-царевич.
Ну что, не видал ли чего?
Нет, братцы, мимо меня и муха не пролетала.
На другую ночь отправился на дозор Иван, кухаркин сын, забрался в кусты и заснул. Иван Быкович на него не понадеялся; как пошло время за полночь - он тотчас снарядился, взял с собой щит и меч, вышел и стал под калиновый мост.
Вдруг на реке воды взволновалися, на дубах орлы закричали - выезжает чудо-юдо девятиглавое; под ним конь споткнулся, чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бедрам, ворона по перьям, хорта по ушам:
Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, а ты, песья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился, а коли родился - так на войну не сгодился; я его одним пальцем убью!
Выскочил Иван Быкович:
Погоди - не хвались, прежде богу помолись, руки умой да за дело примись! Ещё неведомо - чья возьмёт!
Как махнет богатырь своим острым мечом раз-два, так и снёс у нечистой силы шесть голов; а чудо-юдо ударил - по колена его в сыру землю вогнал.
Иван Быкович захватил горсть земли и бросил своему супротивнику прямо в очи. Пока чудо-юдо протирал свои глазища, богатырь срубил ему и остальные головы, взял туловище - рассёк на мелкие части и побросал в реку Смородину, а девять голов под калиновый мост сложил.
Наутро приходит Иван, кухаркин сын.
Что, брат, не видал ли за ночь чего?
Нет, возле меня ни одна муха не пролетала, ни один комар не пищал!
Иван Быкович повел братьев под калиновый мост, показал им на мёртвые головы и стал стыдить:
Эх вы, сони, где вам воевать? Вам бы дома на печи лежать!
На третью ночь собирается на дозор идти Иван Быкович; взял белое полотенце, повесил на стенку, а под ним на полу миску поставил и говорит братьям:
Я на страшный бой иду; а вы, братцы, всю ночь не спите да присматривайтесь, как будет с полотенца кровь течь: если половина миски набежит - ладно дело, если полна миска набежит - все ничего, а если через край польёт - тотчас спускайте с цепей моего богатырского коня и сами спешите на помощь мне.
Вот стоит Иван Быкович под калиновым мостом; пошло время за полночь, на реке воды взволновалися, на дубах орлы раскричалися - выезжает чудо-юдо двенадцатиглавое; конь у него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива - золотые. Едет чудо-юдо; вдруг под ним конь споткнулся; чёрный ворон на плече встрепенулся, позади хорт ощетинился. Чудо-юдо коня по бедрам, ворона по перьям, хорта по ушам.
Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ты, воронье перо, трепещешься, а ты, песья шерсть, щетинишься? Аль вы думаете, что Иван Быкович здесь? Так он ещё не родился, а коли родился - так на войну не сгодился; я только дуну - его и праху не останется!
Выскочил Иван Быкович:
Погоди - не хвались, прежде богу помолись!
А, ты здесь! Зачем пришёл?
На тебя, нечистая сила, посмотреть, твоей крепости испробовать.
Куда тебе мою крепость пробовать? Ты муха передо мной!
Отвечает Иван Быкович:
Я пришёл с тобой не сказки рассказывать, а насмерть воевать.
Размахнулся своим острым мечом и срубил чуду-юду три головы. Чудо-юдо подхватил эти головы, черкнул по ним своим огненным пальцем - и тотчас все головы приросли, будто и с плеч не падали! Плохо пришлось Ивану Быковичу; чудо-юдо стал одолевать его, по колена вогнал в сыру землю.
Стой, нечистая сила! Цари-короли сражаются, и те замиренье делают; а мы с тобой ужли будем воевать без роздыху? Дай мне роздыху хоть до трёх раз.
Чудо-юдо согласился; Иван Быкович снял правую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица все окна побила, а его братья спят, ничего не слышат. В другой раз размахнулся Иван Быкович сильней прежнего и срубил чуду-юду шесть голов; чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем - и опять все головы на местах, а Ивана Быковича забил он по пояс в сыру землю.
Запросил богатырь роздыху, снял левую рукавицу и пустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья всё спят, ничего не слышат. В третий раз размахнулся он ещё сильнее и срубил чуду-юду девять голов; чудо-юдо подхватил их, черкнул огненным пальцем - головы опять приросли, а Ивана Быковича вогнал он в сыру землю по самые плечи.
Иван Быкович запросил роздыху, снял с себя шляпу и пустил в избушку; от того удара избушка развалилася, вся по брёвнам раскатилася.
Тут только братья проснулись, глянули - кровь из миски через край льётся, а богатырский конь громко ржёт да с цепей рвётся. Бросились они на конюшню, спустили коня, а следом за ним и сами на помощь спешат.
А! - говорит чудо-юдо, - ты обманом живёшь; у тебя помощь есть.
Богатырский конь прибежал, начал бить его копытами; а Иван Быкович тем временем вылез из земли, приловчился и отсек чуду-юду огненный палец. После того давай рубить ему головы: сшиб все до единой, туловище на мелкие части разнял и побросал всё в реку Смородину.
Прибегают братья.
Эх вы, сони! - говорит Иван Быкович. - Из-за вашего сна я чуть-чуть головой не поплатился.
Поутру ранешенько вышел Иван Быкович в чистое поле, ударился оземь и сделался воробышком, прилетел к белокаменным палатам и сел у открытого окошечка.
Увидала его старая ведьма, посыпала зернышков и стала сказывать:
Воробышек-воробей! Ты прилетел зернышков покушать, моего горя послушать. Насмеялся надо мной Иван Быкович, всех зятьёв моих извёл.
Не горюй, матушка! Мы ему за всё отплатим, - говорят чудо-юдовы жены.
Вот я, - говорит меньшая, - напущу голод, сама выйду на дорогу да сделаюсь яблоней с золотыми и серебряными яблочками: кто яблочко сорвёт - тот сейчас лопнет.
А я, - говорит середняя, - напущу жажду, сама сделаюсь колодезем; на воде будут две чаши плавать: одна золотая, другая серебряная; кто за чашу возьмётся - того я утоплю.
А я, - говорит старшая, - сон напущу, а сама перекинусь золотой кроваткою; кто на кроватке ляжет - тот огнём сгорит.
Иван Быкович выслушал эти речи, полетел назад, ударился оземь и стал по-прежнему добрым молодцем. Собрались три брата и поехали домой.
Едут они дорогою, голод их сильно мучает, а есть нечего. Глядь - стоит яблоня с золотыми и серебряными яблочками; Иван-царевич да Иван, кухаркин сын, пустились было яблочки рвать, да Иван Быкович наперёд заскакал и давай рубить яблоню крест-накрест - только кровь брызжет!
То же сделал он и с колодезем и с золотою кроваткою. Сгибли чудо-юдовы жены.
Как проведала о том старая ведьма, нарядилась нищенкой, выбежала на дорогу и стоит с котомкою. Едет Иван Быкович с братьями; она протянула руку и стала просить милостыни.
Говорит царевич Иван Быковичу:
Братец! Разве у нашего батюшки мало золотой казны? Подай этой нищенке святую милостыню.
Иван Быкович вынул червонец и подает старухе; она не берется за деньги, а берет его за руку и вмиг с ним исчезла. Братья оглянулись - нет ни старухи, ни Ивана Быковича, и со страху поскакали домой, хвосты поджавши.
А ведьма утащила Ивана Быковича в подземелье и привела к своему мужу - старому старику.
На тебе, - говорит, - нашего губителя!
Старик лежит на железной кровати, ничего не видит: длинные ресницы и густые брови совсем глаза закрывают. Позвал он двенадцать могучих богатырей и стал им приказывать:
Возьмите-ка вилы железные, подымите мои брови и ресницы чёрные, я погляжу, что он за птица, что убил моих сыновей?
Богатыри подняли ему брови и ресницы вилами; старик взглянул:
Ай да молодец Ванюша! Дак это ты взял смелость с моими детьми управиться! Что ж мне с тобою делать?
Твоя воля, что хочешь, то и делай, я на всё готов.
Ну да что много толковать, ведь детей не поднять; сослужи-ка мне лучше службу: съезди в невиданное царство, в небывалое государство и достань мне царицу - золотые кудри, я хочу на ней жениться.
Иван Быкович про себя подумал: «Куда тебе, старому чёрту, жениться, разве мне, молодцу!»
А старуха взбесилась, навязала камень на шею, бултых в воду и утопилась.
Вот тебе, Ванюша, дубинка, - говорит старик, - ступай ты к такому-то дубу, стукни в него три раза дубинкою и скажи: «Выйди, корабль! Выйди, корабль! Выйди, корабль!» Как выйдет к тебе корабль, в то самое время отдай дубу трижды приказ чтобы он затворился; да смотри не забудь! Если этого не сделаешь, причинишь мне обиду великую.
Иван Быкович пришёл к дубу, ударяет в него дубинкою бессчетное число раз и приказывает:
Все, что есть, выходи!
Вышел первый корабль; Иван Быкович сел в него, крикнул:
Все за мной! - и поехал в путь-дорогу.
Отъехав немного, оглянулся назад - и видит: сила несметная кораблей и лодок! Все его хвалят, все благодарят.
Подъезжает к нему старичок в лодке:
Батюшка Иван Быкович, много лет тебе здравствовать! Прими меня в товарищи.
А ты что умеешь?
Умею, батюшка, хлеб есть.
Иван Быкович сказал:
Фу, пропасть! Я и сам на это горазд; однако садись на корабль, я добрым товарищам рад.
Подъезжает к лодке другой старичок:
Здравствуй, Иван Быкович! Возьми меня с собой.
А ты что умеешь?
Умею, батюшка, вино-пиво пить.
Нехитрая наука! Ну да полезай на корабль.
Подъезжает третий старичок:
Здравствуй, Иван Быкович! Возьми и меня.
Говори: что умеешь?
Я, батюшка, умею в бане париться.
Фу, лихая те побери! Эки, подумаешь, мудрецы!
Взял на корабль и этого; а тут ещё лодка подъехала; говорит четвёртый старичок:
Много лет здравствовать, Иван Быкович! Прими меня в товарищи.
Да ты кто такой?
Я, батюшка, звездочёт.
Ну, уж на это я не горазд; будь моим товарищем.
Принял четвёртого, просится пятый старичок.
Прах вас возьми! Куда мне с вами деваться? Сказывай скорей: что умеешь?
Я, батюшка, умею ершом плавать.
Ну, милости просим!
Вот поехали они за царицей - золотые кудри. Приезжают в невиданное царство, небывалое государство; а там уже давно сведали, что Иван Быкович будет, и целые три месяца хлеб пекли, вино курили, пиво варили. Увидал Иван Быкович несчётное число возов хлеба да столько же бочек вина и пива; удивляется и спрашивает:
Чтоб это значило?
Это всё для тебя наготовлено.
Фу, пропасть! Да мне столько в целый год не съесть, не выпить.
Тут вспомнил Иван Быкович про своих товарищей и стал вызывать:
Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас пить-есть разумеет?
Отзываются Объедайло да Опивайло:
Мы, батюшка! Наше дело ребячье.
А ну, принимайтесь за работу!
Подбежал один старик, начал хлеб поедать: разом в рот кидает не то что караваями, а целыми возами. Всё приел и ну кричать:
Мало хлеба; давайте ещё!
Подбежал другой старик, начал пиво-вино пить, всё выпил и бочки проглотил.
Мало, - кричит. - Подавайте ещё!
Засуетилась прислуга; бросилась к царице с докладом, что ни хлеба, ни вина недостало.
А царица - золотые кудри приказала вести Ивана Быковича в баню париться. Та баня топилась три месяца и так накалена была, что за пять вёрст нельзя было подойти к ней. Стали звать Ивана Быковича в баню париться; он увидал, что от бани огнём пышет, и говорит:
Что вы, с ума сошли? Да я сгорю там!
Тут ему опять вспомнилось:
Ведь со мной товарищи есть! Эй вы, старички-молодцы! Кто из вас умеет в бане париться?
Подбежал старик:
Я, батюшка! Моё дело ребячье.
Живо вскочил в баню, в угол дунул, в другой плюнул - вся баня остыла, а в углах снег лежит.
Ох, батюшки, замёрз, топите ещё три года! - кричит старик что есть мочи.
Бросилась прислуга с докладом, что баня совсем замёрзла, а Иван Быкович стал требовать, чтоб ему царицу - золотые кудри выдали. Царица сама к нему вышла, подала свою белую руку, села на корабль и поехала.
Вот плывут они день и другой; вдруг ей сделалось грустно, тяжко - ударила себя в грудь, оборотилась звездой и улетела на небо.
Ну, - говорит Иван Быкович, - совсем пропала! - Потом вспомнил: - Ах, ведь у меня есть товарищи. Эй, старички-молодцы! Кто из вас звездочёт?
Я, батюшка! Моё дело ребячье, - отвечал старик, ударился оземь, сделался сам звездою, полетел на небо и стал считать звёзды; одну нашёл лишнюю и ну толкать её! Сорвалась звездочка с своего места, быстро покатилась по небу, упала на корабль и обернулась царицею - золотые кудри.
Опять едут день, едут другой; нашла на царицу грусть-тоска, ударила себя в грудь, оборотилась щукою и поплыла в море. «Ну, теперь пропала!» - думает Иван Быкович, да вспомнил про последнего старичка и стал его спрашивать:
Ты, что ль, горазд ершом плавать?
Я, батюшка, моё дело ребячье! - Ударился оземь, оборотился ершом, поплыл в море за щукой и давай её под бока колоть. Щука выскочила на корабль и опять сделалась царицею - золотые кудри.
Тут старички с Иваном Быковичем распростились, по своим домам пустились; а он поехал к чудо-юдову отцу.
Приехал к нему с царицею - золотые кудри; тот позвал двенадцать могучих богатырей, велел принести вилы железные и поднять ему брови и ресницы чёрные. Глянул на царицу и говорит:
Ай да Ванюша! Молодец! Теперь я тебя прощу, на белый свет отпущу.
Нет, погоди, - отвечает Иван Быкович, - не подумавши сказал!
Да у меня приготовлена яма глубокая, через яму лежит жёрдочка; кто по жердочке пройдёт, тот за себя и царицу возьмёт!
Ладно, Ванюша! Ступай ты наперёд.
Иван Быкович пошёл по жёрдочке, а царица - золотые кудри про себя говорит:
Легче пуху лебединого пройди!
Иван Быкович прошёл - и жёрдочка не погнулась; а старый старик пошёл - только на середину ступил, так и полетел в яму. Иван Быкович взял царицу - золотые кудри и воротился домой; скоро они обвенчались и задали пир на весь мир. Иван Быкович сидит за столом да своим братьям похваляется:
Хоть долго я воевал, да молодую жену достал! А вы, братцы, садитесь-ка на печи да гложите кирпичи!
На том пиру и я был, мёд-вино пил, по усам текло, да в рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку от быка да налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помоча. Я не пил, не ел, вздумал утираться, со мной стали драться; я надел колпак, стали в шею толкать!
См. также
- Бой на Калиновом мосту - вариант сказки с тремя Иванами.
ПАНТЕЛЕЕВ И.И.
Алёшка с Агула
Цып, цып, цып!..- в который уже раз, присев на корточки, позвал Алешка.
Все десять кур суматошно толпились перед ним. Один петух, огнехвостый красавец, стоял поодаль, гордо подняв свой нахлобученный набок мясистый гребень, и делал вид, что хлебные крошки его нисколечко не интересуют.
А Алешку интересовал именно петух, вернее, его рыжие перья, из которых получались отличные мушки на хариусов.
—Цып, цып...
Петух, как показалось Алешке, презрительно скосил на него левый глаз.
Алешка отщипнул кусочек мякиша и бросил ему. Петух помедлил в нерешительности, потом сделал неуверенный шаг вперед, воровато склюнул мякиш и, отступив назад, снова гордо выпрямился.
Алешка раскрошил в руках оставшийся хлеб и начал горстями бросать через плечо. Куры наперебой кинулись за хлебом. Петух не вытерпел, тоже сорвался с места, но вовремя опомнился и остановился на полпути. Теперь до него было два шага, не больше. Алешкино сердце радостно задрожало. Тихонько, чтобы не вспугнуть петуха, он протянул ему на ладони крошки, ласково приговаривая:
—Петя, Петя... Цып, цып...
Петя недоверчиво наклонил набок голову.
И тогда Алешка прыгнул. Петух испуганно заорал, захлопал крыльями, но цепкие мальчишеские пальцы крепко держали его за хвост. Переполошенные куры с отчаянным кудахтаньем рассыпались по двору.
—Опять за петуха взялся!
Алешка не успел сообразить, в чем дело, как получил увесистый подзатыльник.
А тебе жалко, да? — все-таки огрызнулся он и напоследок хватанул пучок перьев из петушиной шеи.
Отпусти сейчас же, кому говорят!
Петух вырвался из Алешкиных рук и, растрепанный, ошалело помчался к сеновалу.
—Ты смотри — весь хвост выдрал!
Гошка, конечно, приврал — половина петушиного хвоста была целой, только слегка помятой, но Алешка возражать не стал, вскочил и тоже дал стрекача. У калитки в огород обернулся и ляпнул первое, что пришло в голову:
Сам ты селедка... соленая!
За огородом, перемахнув через изгородь и убедившись, что Гошка за ним не гонится, рукавом клетчатой рубашки вытер потное, раскрасневшееся лицо и облегченно вздохнул. Тут же на траве разобрал добытые трофеи. Огненные перья из петушиного хвоста он безжалостно выбросил — добрых мушек из них не получится, зато перья из шеи аккуратно сложил и завернул в клочок газеты. С удовольствием подумал, что теперь ему хватит мушек до конца лета, если даже половину отдать Гошке. Нет, половину он не отдаст, а штуки две-три, не больше. В обмен на кованые крючки, что на прошлой неделе дали брату приезжие рыбаки. Правда, Алешке они тоже дали крючков, но ведь Гошка редко на рыбалку ходит. Он и мушек-то сам делать не умеет, его, Алешку, просит. Гошка все больше книжки читает, говорит, ученым будет. А Алешка будет самым знаменитым охотником, будет, как отец, добывать медведей, сохатых, соболей, ловить в Агуле рыбу.
Алешка глянул на солнце и спохватился: наверное, уже скоро обед, а он до сих пор прохлаждается. Сегодня утром отец с матерью и старшей сестрой Любкой уплыли в промхоз сдавать ягоды. Не воспользоваться этим просто немыслимо. И так в последнее время редко удается порыбачить, потому что они всей семьей плавают на острова по смородину. Алешка не любит это немужское занятие и всеми силами старается доказать, что собирать ягоды он совершенно неспособный человек. Он, например, не может удержаться, чтобы самую спелую смородину не положить в рот, и поэтому в его корзинке всегда полно мусору, а ягоды — одна зелень. Отец как-то посмеялся, что Алешка может зараз умять ведро смородины. Ведро не ведро, а полведра, если поднатужиться, пожалуй, осилит. В общем, на аппетит Алешка никогда не жаловался, недаром он такой толстощекий и коренастый, не то, что Гошка — худющий, одни черные глаза да волосы, как у цыганенка.
Гошка, как видно, давно забыл про петуха. Он читал книжку под навесом и не обратил на Алешку никакого внимания.
Обуть старенькие кеды, сунуть ломоть хлеба за пазуху (огурец он попутно прихватил в огороде) было минутным делом. Еще раз проверил, не забыл ли чего. Крючки в кепке. Леска, ножик — в кармане. Рогатка... С ней он никогда не расставался — пока это его самое сильное и грозное оружие. Удилище он вырежет на месте, потому что старое свое он недавно сломал, вываживая ленка. Подумал: хорошо бы захватить с собой Шарика или Дамку, но собаки увязались за бабушкой и младшими сестренками-близнецами, ушедшими в лес по грибы, и теперь свисти, не свисти — их не дозовешься. Придется идти без собаки.
Гошка оторвал взгляд от книжки, подозрительно посмотрел на брата.
Опять на рыбалку собрался?
Угу, — буркнул в ответ Алешка, — Хочешь — пойдем вместе.
Топай, раз собрался.
Подумаешь. Ну и кисни над своими книжками. А на Сахарном харюзья — во какие! Черные.
Топай, топай...
У Алёшки отличное настроение. Так и хочется припустить бегом по таежной тропе, но он сдерживается — охотник не должен позволять себе глупостей. А Алешка — охотник. Пускай у него нет ружья, зато всегда наготове рогатка. В умелых руках она что-нибудь да значит. У Алешки умелые руки и зоркий глаз. На двадцать шагов он может попасть в воробья. А недавно подстрелил рябчика. Правда, рябчик был молодой, нынешний, и подпустил совсем близко, но это не важно. Важно, что это был рябчик — дичь. Отец тогда похвалил и сказал, что из Алешки, пожалуй, со временем получится настоящий охотник. Один Гошка недоверчиво сузил свои цыганские глаза:
Нашел, небось, дохлого в тайге и хвастаешь.
Алешку взорвало:
Не веришь? Становись на тридцать шагов — в глаз попаду. Гошка, конечно, не встал, и Алешка торжествовал победу.
Тревожно пискнул бурундук. Прыгнул с обомшелого пня на сосну. Проворно, взбежал по корявому стволу и, высунувшись из-за лохматой ветки, с любопытством уставился на Алешку крошечными глазками-точками. Нет, Алешка не натянул резинку, не стал лишать жизни маленького забавного зверька, он вложил два пальца в рот и свистнул.
Мелькнула рыжая метелка бурундучьего хвостика, и попробуй-ка, отыщи его в густых колючках соседней елки! Охотник улыбнулся, довольный. Постоял немного, подождал, не покажется ли снова испуганный зверек, и, не дождавшись, зашагал дальше. Однажды знакомый геолог дядя Гриша сказал отцу:
— Живете вы в своей Соломатке на краю земли, богом забытые. Оттого все и разъехались отсюда.
Алешка с ним не согласен. Ну какой же это край земли, если тайга кругом! Идешь, идешь, а ей конца-краю нету.
И про бога он, тоже зря, потому что никакого бога на свете нет и не было никогда. Да и кто в бога верит? У них в семье одна бабушка в неделю раз перекрестит беззубый рот, вздохнет. Как-то Алешка спросил ее, зачем она крестится. Бабушка легонько шлепнула его сухой ладошкой по мягкому месту, велела не совать нос куда не следует. Так ничего и не ответила.
А вот про то, что разъехались, — правда. Говорят, когда-то было в Соломатке дворов двести, не меньше. Все больше переселенцы жили. Кто такие, Алешка не знает. Перед самой войной вышло им какое-то разрешение, они собрали пожитки, продали дома на снос, а некоторые так просто заколотили окна досками крест-накрест и уехали кто куда. И теперь в Соломатке всего шесть домов, половина из них пустует. Из старожилов осталось две семьи: они, Егоровы, да дед Жлобин с бабкой. Нынче весной приехала еще одна семья — рабочие по сбору живицы — и поселились в пустом доме на самом краю деревни.
У Алешки в Соломатке нет никого друзей. Откуда им взяться? Дед Жлобин — бездетный, а у приезжих две девчонки-малолетки, одна еще под стол пешком ходит.
Если подумать хорошенько, то и получается по дяди-Гришиному, навроде как живут они на краю земли. И правда, дальше вверх по Агулу нет никаких деревень — одни охотничьи избушки.
И все равно Алешка ни за какие калачи не согласен уехать из родной деревни. Где еще найдешь такую рыбную реку, как Агул, и тайгу, где так много дичи и зверья разного? А что народу мало, так уж недолго осталось ждать: народ будет. Говорят, собираются строить здесь то ли завод какой-то, то ли химлесхоз. Что-нибудь обязательно построят, не может быть, чтоб не построили, потому что сейчас везде строят, даже на самом дальнем-дальнем Севере, где и лесу-то никакого нет — одни болота да карликовые березки...
Алешка остановился: показалось, будто тоненько засвистел рябчик. Так и есть, но далеко, в черемушнике за протокой. Пускай свистит себе, рябый...
Лес начал постепенно редеть, расступаться. Сейчас будет большая поляна. По краям ее и дальше в глубь леса тут и там возвышаются одинокие старые сосны. На них часто садятся глухари. Алешка несколько раз видел их, пробовал подкрадываться к ним поближе, но — где там! — глухарь — птица зоркая, осторожная, сразу начинает беспокойно вытягивать шею, потом тяжело слетает с дерева и — поминай, как звали.
На этот раз глухарей не оказалось. Только высоко в голубом небе кружил над поляной коршун. Вдруг прямо из-под ног нежданно-негаданно выскочил молодой зайчишка. Алешка пульнул в него из рогатки. Промазал и рассмеялся — до того потешно, подкидывая задние лапы, удирал косой.
За поляной снова пошел тенистый прохладный лес. Деревья близко подступали к тропе. Когда-то это была не тропа, а самая настоящая дорога и вела она в поселок Сахарный, от которого остался один полусгнивший барак да черная, крытая трухлявым драньем баня.
До Сахарного было уже недалеко. Чтобы не отвлекаться на то и дело взлетающих сизарей, Алешка спрятал рогатку в карман. Пошел быстрее. Пересек кочкарник и, прежде чем выйти из березняка, не утерпел, свернул с тропы вправо к большому, превратившемуся в гнилушки пню. Там был муравейник. Срезал складником березовый прут, очистил его и сунул в податливую, как опилки, муравьиную кучу. Муравьи забегали, закопошились, облепили прут, поползли по Алешкиной руке. Он сбрасывал их, а они ползли и кусались. Наконец он вытащил прут, сдул с него оставшихся муравьев и на ходу с наслаждением стал обсасывать его: любил охотник полакомиться кисло-терпким муравьиным соком!..
Березняк кончился.
Алешка вышел на берег и невольно зажмурился— до того ослепительно сверкал на солнце Агул...
В глубине поляны среди буйно разросшейся дикой конопли виднелся барак. Алешке не нравилось это унылое с провалившейся крышей строение. Без особой нужды он редко заглядывал туда. Не то что боялся, а просто от одного вида замшелых бревен и острого запаха плесени, от густо вытканной по темным углам паутины и мышиной возни под прогнившими половицами становилось муторно на душе. Поговаривали, будто по ночам в бараке жутко, по-человечески стонет филин. Кто знает, может, и неправда это, но Алешка ни за что не остался бы ночевать в бараке.
Сейчас он лишь мельком взглянул на угрюмый барак. Его внимание привлекла голубая струйка дыма над лесом. В другое время он бы не обратил на дым никакого внимания — костер на берегу Агула — обычное явление. Мало ли ездит сюда охотников половить агульских черноспинных хариусов. Но дым был как раз над тем местом, где Алешка собирался рыбачить. Кто бы это мог быть? Приезжие или свои, агульские?
Алешка перебрел неглубокую протоку, обогнул мысок острова, заросший тальником, и по тропе вдоль берега направился к костру. В голове его возникали самые невероятные догадки. А что если это разбойники или бандиты? Да, да, самые настоящие! Сидят себе у костра и ждут ночи, чтобы напасть на Соломатку, или подкарауливают рыбаков с верховьев Агула, чтобы убить их и забрать бочонки с рыбой. От таких дум стало немножко не по себе, но отступать было поздно. Алешка и не собирался отступать. Он только свернул с тропы и пошел тише, чутко прислушиваясь к лесу, вздрагивая от легкого, шороха веток и хруста сучков под ногами. Сердце его то замирало, то, наоборот, отчаянно колотилось в груди.
Он подкрался к ним так близко и увидел их так внезапно, что невольно припал к земле и попятился назад за липкий, в потеках смолы, шершавый ствол, ели.
Их было двое, и они не походили ни на разбойников, ни на бандитов. Оба в одинаковых лыжных костюмах неопределенного, не то синего, не то темно-серого цвета, в высоких резиновых сапогах с завернутыми голенищами. У них не было кривых остро отточенных кинжалов, какие Алешка видел на картинках в книжке про Али-Бабу и сорок разбойников; у одного, который сидел на пне лицом к нему, висел на поясе обыкновенный магазинный охотничий нож.
Они пили из кружек дымящийся чай.
Успокоенный, Алешка хотел потихоньку отползти к тропе, чтобы, не скрываясь, как ни в чем не бывало подойти к ним, но тот, который сидел к нему спиной, выплеснул из кружки остатки недопитого чая и громко сказал:
— Что ни говори, Сергей, а чай из агульской водички — сила. Что-то знакомое почудилось в его хрипловатом голосе. Где-то Алешка слышал этот голос, видел этого невысокого плечистого дядьку с толстой красной шеей. Сергей тоже показался знакомым: такой же чернявый, как и напарник, но худощавый, широкоплечий, с большими костистыми руками... Ну, конечно же, это они с месяц назад причалили на лодке-долбленке к Соломатке в устье Колхи. Сергей сидел за рулем, а этот толстый, когда лодка ткнулась носом в берег, шагнул через борт прямо в поду. Припадая на левую ногу, подошел к Алешке и Гошке, вязавшим веники в тени под черемухой, и хрипловато спросил:
— Пацаны, далеко еще до Сахарного?
Гошка ответил, что недалеко, а Алешка поинтересовался:
Вы что, рыбачить туда?
Может, и порыбачим, если клевать будет, — не сразу, с усмешкой ответил дядька, пристально глядя на Алешку своими неприятно маленькими цепкими глазками.
Михаил, иди-ка помоги, — позвал Сергей.
Точно, этого толстого зовут Михаилом, Алешка все вспомнил. Они тогда долго копались в моторе, что-то регулировали. И еще Алешка хорошо запомнил их мотор «Москву», старенький, с облупившейся по бокам зеленой краской.
А вечером приплыл сверху отец и рассказал, что какие-то двое — один толстый, другой худощавый,— глушили рыбу в Велигжанином плесе. Бросили две бутылки. Их видели удившие неподалеку приезжие рыбаки, стали кричать, ругаться. Браконьеры струсили, завели мотор и удрали вниз.
Это ж столько рыбы загубить — все дно усеяно! — возмущался отец. — Ну, пускай они только появятся на Агуле...
И вот они появились снова. Алешка был уверен, что это именно они. Что делать? Бежать в Соломатку и рассказать о браконьерах отцу? Далеко, и отец, наверно, еще не вернулся домой. Пока дождешься его, они поглушат рыбу и удерут. Будь у Алешки ружье, он, не задумываясь, пальнул бы в этого толстого — он почему-то особенно ему не понравился — и обязательно солью, чтобы навек запомнил, как браконьерничать. Но ружья не было. Алешка, затаив дыхание, лежал под елкой и мысленно призывал на их головы самую тяжкую кару.
Браконьеры курили, о чем-то разговаривали вполголоса. О чем, Алешка не мог понять из обрывков фраз и отдельных слов, долетавших до него.
Все, — произнес Сергей, вставая. — Пойдем побродим вдоль протоки. В прошлый раз я видел там много смородины.
Алешка злорадно усмехнулся: в прошлый раз там, конечно, была смородина, да сегодня утром уплыла в промхоз. Это он уж знает совершенно точно — сам набрал вчера чуть не полную корзину, всю рубашку изодрал по кустам.
Сергей принес из лодки двустволку и два ведра. Одно ведро отдал Михаилу, и они не спеша, направились в лес.
Алешка выждал, когда они скрылись, осторожно озираясь, подполз к тлеющему костру. Закопченный котелок, две кружки, полбулки белого городского хлеба на измятой газете, недопитая бутылка водки, прислоненная к не завязанному рюкзаку... Как ели, так все и оставили, не прибрали даже.
Алешка ни к чему не притронулся, хотя его так и подмывало вылить из бутылки водку и набрать вместо нее воды. Он не стал мелочиться. Он придумал такое, от чего браконьеры взвоют... Пока они ищут ягоды, лодка их далеко уплывет, и Алешка тоже будет не близко.
Дрожащими пальцами он отвязал от березового пня веревку, и в тот самый момент, когда, быстрое течение готово было подхватить закачавшуюся на воде лодку, в голову пришла еще более дерзкая мысль. Алешка с силой оттолкнул нос лодки от берега и прыгнул в нее сам...
Съежившись от страха, он лежал на дне лодки и считал перекаты.
Первый…
И немного погодя — второй...
Шум переката быстро удалялся — это начался не широкий, но глубокий плес ниже Сахарного.
Третий...
Лодку упруго закачало на волнах. Алешка крепко зажмурился: в этом месте Агул свирепо бьет в левый берег, того и гляди, швырнет на упавшее в реку дерево или на корч — тогда не миновать купанья.
Но как будто все обошлось; лодку перестало качать; за бортом ласково хлюпала вода.
Алешка прислушался и, не услышав ничего подозрительного, тихонько высунул голову. Страшный перекат остался позади. Лодку несло кормой вперед мимо дремучего ельника и кустисто висевшего над водой тальника. И ни души кругом. Видать, браконьеры нашли необобранные кусты смородины и еще ничего не знают...
Почему-то подумал о том, что, вернувшись к костру и обнаружив исчезновение лодки, они обязательно начнут ругаться, бестолково бегать по берегу. У того, толстого, глазки, наверно, сделаются совсем маленькими и злыми... Пускай позлится!
От мысли, что все так удачно получилось и что, хоть злись-перезлись, браконьерам все равно не догнать его, Алешка успокоился. Страх прошел.
Лодку начало разворачивать поперек течения.
Он перебрался на корму. Взял шест и стал толкаться к противоположному берегу. Железный наконечник шеста беспомощно чиркал по каменистому дну, тяжелая вертлявая долбленка плохо слушалась, и он весь вспотел, пока переплыл Агул.
Теперь можно было немножко передохнуть.
Лодка бесшумно плыла по течению; безмолвно проплывал мимо нависший над водой берег, весь в зелени, разомлевшей от жары; прохладно блестела поверхность Агула. Кругом было так тихо и так покойно, что Алешка забыл о браконьерах. И вдруг его будто кольнуло: а что, если это не браконьеры и он зря угнал лодку?
Сразу противно заныло внутри.
Навстречу быстро приближался остров, отделенный от берега неширокой протокой.
Алешка изо всех сил заработал шестом, направляя лодку в протоку. Сейчас он все узнает, убедится... Если это браконьеры, то у них должна быть взрывчатка или сети. Сетями на Агуле запрещено ловить всем, кроме промхозовских рыбаков. Сейчас он все узнает...
Лодка поравнялась с островом, прошуршала днищем по гальке и прочно села на мель.
Алешка не любил и не умел долго раздумывать.
Через минуту, стоя по щиколотку в воде, он обшаривал лодку. В носу в холщовом мешке нащупал берестяные поплавки — сеть. Немного отлегло от сердца. Возле мешка под старой клеенкой оказался маленький фанерный ящик, и в нем, завернутые в тряпки отдельно друг от друга, бутылки с нацеленными вверх горлышками. Он осторожно вытащил одну — тяжелая. Сквозь зеленое стекло просвечивал какой-то порошок. Взрывчатка! Холодный пот выступил на лбу. Алешка чуть не выронил страшную бутылку.
Бутылка мирно блестела и, кажется, не думала взрываться.
Тогда, осмелев, дрожащими пальцами он попробовал ототкнуть ее. Она невольно легко ототкнулась. С опаской наклонил: из горлышка желто-серой струей тек порошок и тонул, оставляя на воде едва заметную пыльную дорожку.
Уже ничего не боясь, он одну за другой опорожнил все пять бутылок, пустые аккуратно составил обратно в ящик, прикрыв клеенкой.
Развязал мешок с сетью. Сеть-трехстенка была новая, капроновая, в точности такую недавно привез из города отец. Хорошо бы спрятать ее в кустах на острове, а после приплыть и забрать, но если узнает отец, тогда... У Алешки даже зачесался затылок. Со вздохом запустил в сеть острое лезвие складника.
Расправившись с трехстенкой, Алешка стал соображать, что бы такое сделать с мотором. Вспомнил, Как тогда, у Колхи, помогая Сергею, Михаил продувал фильтр отстойника и нечаянно уронил поддонник в воду. Сергей рассердился, обозвал его растяпой и сказал, что без этой штуки все равно, что без бензина — никуда не уплывешь. Михаил засучил рукава и долго шарил по дну руками, пока не отыскал злополучный поддонник.
Снять с мотора кожух для Алешки было пустяковым делом. И вот он держал в руке пластмассовую чашечку поддонника. Хотел бросить в воду, но передумал — пригодится — и сунул в карман.
Теперь все в порядке. Алешка представил себе, как браконьеры, найдя лодку, обрадованно кинутся к ней. Обнаружив изрезанную сеть и пустые бутылки, начнут трусливо оглядываться, оттолкнутся от берега, и Сергей изо всех сил будет дергать стартер, а мотор и не подумает заводиться. Волей-неволей придется спускаться вниз самосплавом, и все, кто увидит их, сразу поймут, что это браконьеры, и будут кричать им вслед, чтоб они сматывались вон с Агула. Вот если бы еще краской написать на борту... А что?.. Ведь буквы можно вырезать! После их ничем не соскоблишь и не замажешь — их все равно будет видно.
Не раздумывая, Алешка вооружился складником и приступил к делу. Стоя на коленях прямо в воде, он работал вдохновенно, как настоящий художник. Буквы получались большие, во всю ширину борта; белые, внушительно толстые, они четко выделялись на потемневшей обшивке лодки. Особенно хороша была первая. Остальные получились не очень: «Е», например, походило на обломанный трехзубый гребешок, «Н» напоминало разъехавшуюся, кое-как сколоченную лестницу. Зато последняя вышла под стать первой, ровная и красивая, Алешка критически оглядел свое творение и остался доволен— надпись, как он и рассчитывал, заняла весь левый борт от носа до кормы, впрочем, нет, на корме еще оставалось немного места, ровно столько, чтоб поместилась точка. И точка подвела: в самый решительный момент, когда она была почти готова, лезвие ножа хрупнуло и коротко булькнуло в воду. С досады Алешка прикусил язык, чуть не со слезами на глазах посмотрел на непохожую куцую ручку складника, теперь уже бесполезную, и в сердцах забросил ее в кусты.
Алешка недолго горевал о ноже. Нужно было что-то делать. Браконьеры, небось, уже обнаружили исчезновение лодки и теперь вовсю рыщут по левому берегу. Правда, сюда они никак не смогут попасть — мешал Агул, а тальниковый островок надежно скрывал от любопытных глаз, но не оставаться же здесь до ночи! Алешка хорошо знал и этот узкий длинный островок, и эту мелкую шумливую проточку. Агулом до устья Колхи отсюда километра два, не больше, а если перебрести протоку и идти берегом — целых три по бурелому и болоту.
А если... Нет, Алешка просто ненормальный человек! Как он мог забыть, что выше этого островка, под тем берегом река делится на два рукава? Браконьерам, хоть тресни, ни за что не перебраться через старый Агул — глубоко, и такая быстрина, что камни несет по дну. Выходит, Алешке нечего бояться. Он может спокойно плыть до самой Зонской протоки, а оттуда до Соломатки — рукой подать.
Алешка поднатужился, столкнул лодку с мели.
Мокрый с головы до пят, с разорванной штаниной, Алешка добрался до устья Колхи. Колха — мутная ленивая речушка — течет и не течет. За лето она совсем обмелела, заросла бледно-зелеными неприятно скользкими лопухами; вода в ней теплая и вонючая, как в болоте.
Алешка раздвинул перепутавшиеся ветви черемухи и краснотала, хотел соскользнуть с травянистого берега вниз, чтобы перебрести на ту сторону, но тут же попятился назад.
Это были они. Он их сразу узнал. Они были на том берегу, на мыске. И с ними — Гошка.
Алешка спрятался за черемухой и стал наблюдать. Сергей что-то спрашивал у Гошки. Михаил стоял рядом, сгорбившись под тяжестью рюкзака. А где же ведра? Ага, они засунули их в рюкзаки. Значит, ягод так и не нашли. Вид у обоих усталый, у Михаила (Алешка это сразу заметил) разорвано голенище правого сапога...
Гошка что-то объяснял, жестикулируя руками. Наверно, как лучше выйти к Зонскому перекату. Полчаса назад Алешка оставил там лодку и чуть не утонул. Хорошо, что течением сбило его у самого берега и он успел схватиться за талину. Он дешево отделался: ушиб колено да пострадали штаны. Догадайся они перебраться через старый Агул, они бы его как раз прищучили. Они не догадались...
Сейчас Алешка их ни капельки не боялся. Он просто не хотел попадаться им на глаза. Он сидел в засаде а ждал, когда они уйдут. И еще ему очень хотелось, чтобы они быстрей нашли свою лодку.
Кажется, дождался — идут. А что если им вздумается перебродить Колху в этом месте? Алешка съежился, прижался к земле. Нет, пошли выше — там мельче. Они торопились. Михаил едва поспевал за Сергеем, Теперь Алешка их не видел — мешали кусты. Он слышал, как они забрели в воду, как вышли на берег, по треску сучьев догадался — углубились в лес.
Он нарочно перебродил Колху не поперек, а наискосок, почти вдоль. Местами глубина доходила до пояса. Заметив, что брат отложил книжку и наблюдает за ним, нарочно поскользнулся и окунулся по шею. Теперь Гошка не будет приставать с расспросами, где да как искупался, не слепой — сам видел. И вообще Алешка ему ничего не скажет, по крайней мере, сегодня. Расскажет после, дня через три, когда все рыбаки на Агуле будут ломать головы над тем, чтобы узнать, кто же так здорово проучил браконьеров.
Не выходя на берег, Алешка остановился напротив брата.
Удивленный его необычным появлением, Гошка недоуменно посмотрел сперва на его разорванные штаны, потом на его круглую лукавую физиономию.
Ты... что? — наконец выговорил он.
На кедру лазил, — не моргнув, соврал Алешка.— Штаны порвал... Попадет от мамки.
По прищуренным Гошкиным глазам понял: не верит. Ну и пусть. Интересно, если бы ему все начистоту выложить? Не поверит: скажет — хвастаешь.
Вытащил из-за пазухи размокший хлеб, попробовал: липнет во рту — невкусно. Бросил малявкам в воду. Достал огурец.
Гошка все также недоуменно смотрел на младшего брата.
Алешка стоял по колено в воде, хрустел огурцом и тоже поглядывал то на малявок, дружно терзавших хлеб, то на Гошку. Не вытерпел, спросил:
Дядьки куда пошли?
Городские-то? — с готовностью отозвался Гошка. — Растяпы! Лодка у них уплыла. Так они по старому Агулу искали. Чудаки! Ее, поди, в Зонскую унесло. Не перевернуло, так где-нибудь на перекате застряла. Туда пошли.
Найдут.
Что?
Лодку. На перекате, — ухмыльнулся Алешка.
Ты видел ее, да? — Гошка настороженно сузил цыганские глаза.
Не-е... Я на кедру лазил. — Алешка бросил недоеденный огурец и начал стягивать с себя рубашку.
— Посушить надо, а то мокрая.
Выжал рубашку, расстелил ее на траве. Как бы между прочим, поинтересовался:
А ты что, папку ждешь?
Так сижу.
Врешь. Любка книжек обещала привезти.
А тебе не все равно?
Алёшке было все равно. Он многозначительно хмыкнул и промолчал. Гошка тоже не проронил ни слова.
…Они лежали на траве на почтительном расстоянии друг от друга. Каждый был занят своим очень важным делом. Гошка читал. Алешка, раздевшись до трусов, загорал, и время от времени хлопал себя по голому телу, норовя пришибить назойливого паута. Оба то и дело поглядывали на Агул: один налево — не идет ли снизу лодка, другой направо — не показалась ли сверху другая. Иногда их взгляды встречались и поспешно разбегались в разные стороны.
Неизвестно, как бы долго это продолжалось, если бы Алешка не вскочил и не воскликнул ликующим шепотом:
Плывут!
Из-за поворота показалась лодка. Это были они. Михаил грузно сидел впереди; Сергей, стоя на корме, толкался шестом; подвесной мотор безмолвствовал. Лодка быстро приближалась. Вот она поравнялась с братьями, и Алешка увидел на ее борту большие белые буквы. Они, видать, так торопились, что даже не попытались замазать их грязью. Буквы нахально лезли в глаза.

- «БРО-КОНЬ-Е-РЫ»... — по слогам прочитал Гошка и, скосив удивленный взгляд на ухмыляющуюся Алешкину физиономию, буркнул: — Ошибка: после «эр» — «а» надо.
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Георгий Марков
Отец и сын (сборник)
© Марков Г.М., наследники, 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес
Отец и сын
Роман
Книга первая
Глава перваяВ знойную июльскую пору тысяча девятьсот двадцать первого года вверх по Васюгану плыли караваном проконопаченные паклей с варом, просмоленные тесовые лодки. В лодках под брезентом и берестой – груз, на кормовых и носовых лавках – мужики, бабы, ребятишки. Лодки осели в воду по самые верхние бортовины и двигались медленно, тяжело, будто взбирались на крутую гору. Хотя река Васюган тихая, без волны, и темная-темная, как из навара чаги, а все ж не стоит она на месте, катит непроглядное, мутное месиво из воды, ила, древесного мусора к глубоким обским омутам. В версте от каравана – два баркаса. В них – кони и коровы на тугих привязях.
Взрывая вековечную тишину Васюгана, гулко хлопали о воду плицы гребей, пронзительно взвизгивали от натуги уключины, перекрикивались по-богатырски звонкими и сильными от эха голосами горластые мужики.
Старый, матерый глухарь взгромоздился на сухую вершину высоченного кедра, вытянул вороненую шею и замер, будто окаменел. Птичий век его подходил к концу, а такого скопления людей ему видывать на этой безмолвной реке не доводилось.
На третий день пути Васюган изогнулся, словно змея перед прыжком, и рассек глухую холмистую тайгу длинным и прямым, наподобие охотничьего ножа, плесом. Слева поднимался белый, чуть не меловой яр в отменных лесах: кедр, сосна, береза – и все как на подбор; а справа тянулся серебрящийся и днем, и в лунные ночи песок, чисто промытый в половодье. Вдоль реки по песку стояла зеленая стена из тополей, ветлы и тальника. За этой стеной расстилались гладкие, покрытые густой травой заливные луга. Вдали их разбег преграждала непроглядная, дремучая тайга. Она сливалась с небом, и думалось, нет у нее ни конца ни края.
Когда прямой плес пошел на закругление, первая лодка причалила к берегу. Из нее выпрыгнул высокий длиннорукий мужик. Он был в броднях с завернутыми голенищами, в просторных холщовых шароварах, в сатиновой рубашке без пояса. Большую лобастую голову покрывали волнистые, почти кудрявые светло-русые волосы. На щеках и под губами лохматилась небогатая бородка, тоже почти кудрявая. На сухощавом лице – крупный нос и неспокойные серые глаза, зоркие, в прищуре, диковатые, как у рассерженной рыси, а минутами добрые, буйно-веселые. Это был Роман Захарович Бастрыков.
– Правь сюды! – крикнул он кормовым в лодках и зазывно замахал руками.
– Чуем, Роман! – отозвались с лодок, и они одна за другой повернули к берегу.
– Ну айда, ребятушки, на смотрины, – сказал Бастрыков мужикам, вместе с ним сошедшим с лодки.
Сокрушая бурьян сильными ногами, Бастрыков шагнул прямо в чащобу леса, полез в гору. За ним цепочкой потянулись: толстый, с повисшей сухой рукой Васюха Степин; его братан Митяй – жилистый, гибкий парень с отчаянными, озорными глазами и усмешкой на веснушчатом лице; грудастый силач Тереха, крепкий и тяжелый, будто выпиленный из лиственничного сутунка, и десятилетний парнишка, щуплый цыпленок, розовощекий и светлоглазый, как девчонка, Алешка, сынок Бастрыкова, нигде и никогда не покидавший отца. Лес скрыл мужиков, голоса их стали неразборчивыми, а потом и вовсе затерялись в неподвижной немоте тайги.
Лодки пристали, но на берег никто сходить не рисковал: а вдруг придет Роман с мужиками и доведется снова плыть по Васюгану дальше и дальше?
Ждали долго – может быть, час, а то и поболе. Вот стал слышен хруст сушняка под ногами мужиков, потом их говор. Они были веселы, разговаривали громко, смеялись, Митяй Степин присвистывал и от озорства и от удовольствия. Гоготал и сам Роман Бастрыков. Его любимец Алешка попискивал наподобие бурундучка тонюсенько-тонюсенько, будто дул в соломинку.
– Над чем вы там ржете-то, как жеребцы стоялые? – крикнули с лодок, когда головы мужиков замелькали в прибрежном бурьяне.
Алешка обогнал всех, подбежал к лодкам первым, давясь смехом, принялся рассказывать:
– Михайла Топтыгин… учудил… Идем, а он на полянке балуется… Испужались мы… убечь хотели. А тятя говорит: «Давайте тумнем все разом». Мы и крикнули. Ка-а-ак он сиганет! И пошел и пошел, только хруст стоит. Так перепужался, что с перепугу всю поляну обмарал…
Алешка закинул вихрастую головенку, залился звонким смехом.
– Господи боже, и куды нас нелегкая занесла! – запричитала на одной из лодок баба, повязанная, невзирая на жару, теплым полушалком.
– А если б он кинулся на вас – тогда что? Голой рукой разве его возьмешь?! Подмочил бы ты тогда, Алешка, штаны-то! – ухмыльнулся кормовой самой большой лодки Иван Солдат, степенный мужик со смолево-черной окладистой бородой.
– Голой рукой?! А вот он – топор! Хрясь по черепку между глаз – и готов! – подходя к лодкам, сказал Митяй и поиграл топором, перебрасывая его из руки в руку.
Последним вышел из лесу Бастрыков. Люди в лодках примолкли, бросали на него нетерпеливые и вопрошающие взгляды. Бастрыков вытер рукавом рубахи взмокшее, в крупных каплях пота, раскрасневшееся лицо.
– Тут и осядем, братаны.
– Обскажи выгоды, – попросил Иван Солдат.
И все вокруг насторожились, чтобы не упустить чего.
– Перво-наперво – место, – заговорил Бастрыков. – Видимость во все стороны. Мы видим, и нас видят. Избы срубим по яру, вдоль реки. Лес тут же: сосна, ель, пихта. Что тебе по душе, то и руби. Чуть подале – кедрач, а раз кедрач, то и орех, и зверь, и ягоды под рукой.
– А под пашню чистина найдется? – спросила баба, низко повязанная полушалком. На нее зашикали: не перебивай, мол, дойдет черед и до этого, Роман не без головы.
Но Бастрыков услышал и ответил без промедления:
– Чистины есть, а только сразу не вспашешь. Выжигать и корчевать придется.
– Ой, мужики, насидимся без хлеба! – воскликнула баба.
– Проживем, Лукерья! Рыба, дичь, ягода…
– Обсказывай, Роман, выгоды…
– Ну, вон напротив нас луга, – продолжал Бастрыков. – Есть где скотине мясо и жир нагуливать. А рядом с нами еще одна речка. – Он махнул длинной рукой. – Вот этот заливчик устье обозначает. В случае, если в большой реке рыбы нету, в малой ее будем брать…
– Будто для нас сотворено это место, – подтвердил Васюха Степин.
– От добра добра не ищут. Давайте выгружаться да балаганы к ночи готовить. Не ровен час гроза соберется. Припаривает, как в бане. – Иван Солдат похлопал себя широкой ладонью по нечесаной, лохматой голове.
– С богом! Не один ли шут, где помирать: здесь или еще где. – Лукерья встала, сбросила с себя полушалок и, сразу чудом помолодевшая, легко и ловко выпрыгнула из лодки.
– Ты у меня докаркаешься! – крикнул на жену Тереха и угрожающе, без шутки, поднял кулаки-кувалды на уровень крепкой, выгнутой груди.
Мужики, бабы, ребятишки – все кинулись из лодок на берег. Митяй подошел к толстой сосне, ловкими ударами топора стесал боковину. Алешка сбегал в лодку, принес банку со смолой, Митяй корявыми буквами вывел: «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”.
– Как, Роман, вывеска подходяща? – спросил он, когда работа была окончена.
Бастрыков сидел на пеньке, плановал с мужиками, как расставить балаганы, где поместить общую кухню и построить склад для хранения припасов и прочего имущества.
– Какая вывеска? – Бастрыков озабоченно взглянул на Митяя и своего сынка Алешку, который, как вьюн, крутился то возле отца, то возле парня.
– А вона… Пусть все знают, что пришла на Васюган советска власть и коммуния, – указывая на толстую прибрежную сосну, с торжественностью в голосе произнес Митяй.
– Глянь, тятя, глянь! – схватив отца за руку, Алешка тянул Романа за собой.
Бастрыков встал, подошел к сосне. Мужики все до едина двинулись за Романом.
Около сосны Роман остановился, уставил длинные руки в бока, откинул голову и замер с тихой улыбкой на губах.
– Эх, чертяка, угораздил! – Бастрыков бросил на Митяя довольный взгляд. – Вывеска неслыханна, никто мимо такой вывески не пройдет, не проедет. – Он прищурил глаза, вслух по складам прочитал: – «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”. – Потом произнес эти слова еще и еще раз. По гордой осанке, по задорно взбитой бороденке, по блаженству, которое отражалось на худощавом, забронзовевшем на солнцепеке лице, чувствовалось, что слова эти вызывают в душе Романа и радость и гордость и нет в жизни у него слов, которые были бы сейчас дороже этих.
Тереха сердито покосился на жену, и опять его увесистые кулаки угрожающе поднялись. Но Бастрыков посмотрел на Тереху осуждающе и Лукерье ответил с подчеркнутым уважением:
– Для самих себя это, Лукерья! Мало ли люди напридумали себе всяких удовольствий. Ну вот и мы: знай, дескать, наших, как-никак – коммунары!
– Да разве мы одни тут? Раскиданы здесь люди, как суслоны по пашне, – сказал Васюха Степин и повернулся к брату. – Доброе дело Митюшка придумал.
– Остяк, он хоть и не прочитает, потому что темен, а заметить – заметит. Глаз у него страсть какой зоркий, – обращаясь по-прежнему к Лукерье, пояснил Бастрыков. – И любопытен он, как ребенок. Вот пройдет слух, что мы на Белом яру поселились, и зачтут они к нам ездить… Придется привечать. Угнетенный был народ, обиженный…
– Парижски коммунары всем трудовым людям дружки были. Абы ты черны мозолисты руки имел, – хвастнул своими познаниями Митяй.
Алешка взглянул на него с завистью и поближе встал к парню. Тот, к великой радости мальчишки, обнял его при всех.
– Ну, братаны, дело надо делать, – сказал Бастрыков. – Одни будут лес валить, другие с неводом на рыбалку поедут. Вася, ты тут на берегу за старшего, а я там – на воде.
– А где я буду, тятя? – влез в разговор Алешка.
– Где иголка, там и нитка, – ласково усмехнулся Бастрыков.
– А Митяй куда пойдет, тятя?
– Митяй – лесоруб. Пойдет лес валить.
Алешка задумался: хорошо бы пойти с Митяем, весело с ним, но жалко покидать и отца, с ним всегда спокойно, хорошо: что не знаешь – он расскажет, что попросишь – непременно уважит, сделает.
– А ты, может, со мной, Алешка, пойдешь котелки чистить? – подскочила к парнишке Мотька – дочь Васи Степина, крепкая, мускулистая девка, проворная, как огонь.
– Вались-ка ты со своими котелками в болото, – отмахнулся Алешка и заспешил вслед за отцом.
Ушли мужики на работу, и опустел взлобок около обтесанной сосны. Остались тут одни бабы выгружать пожитки, только Лукерья отошла в сторону, привалилась к сосне, окинула взглядом по лихорадочному мятежных черных глаз широкий разлет лугов, блестящую, всю в золотых бликах реку, яр с нависшими над круговертью бездонных омутов соснами и березами, тяжело вздохнула. Нет, чужим и неприветливым казался ей этот далекий, пустынный край. Ни обилие рыбы в непроглядной, темной реке, ни эти безлюдные просторы, полные нетронутого богатства, ни радости коммунарской жизни, которые с такой щедростью обещал Роман Бастрыков, – ничто не трогало Лукерьиного сердца. Неужели ради прозябания тут, в этой глуши, стоило бросать насиженное гнездо в хлебопашеской родной сторонке, плыть пять суток на полуразбитом пароходишке все к северу, все к северу, а потом скрестись три дня на утлых лодчонках, рискуя в любую минуту наскочить на коварный подводный карч? Нет…
Лукерья закрыла лицо полушалком, всхлипнула.
Лукерья вздрогнула, выпрямилась.
«Господи, хоть бы ты-то, постылый, забыл меня в этот час! Ни детей с тобой не прижито, ни добра с тобой не нажито».
Вдруг на яру ударили острые топоры, рассыпался по тайге их стукоток, потом зазвенели поперечные пилы, рассекая дремотную тишину знойного полудня, рухнула первая сосна, да так рухнула, что земля задрожала.
Лукерья торопливо перекрестилась, со стоном произнесла:
– Батюшки светы, неужто не будет конца этой распрочертовой жизни!..
Глава втораяНикто, ни один посторонний человек не видел, как выгружались из лодок коммунары, как они три дня и три ночи без передышки ладили балаганы, амбар, рубили лес на постройку домов. Рано утром на четвертый день жизни у Белого яра произошел случай, который хочешь не хочешь заставил думать, что весть о прибытии коммунаров разнесли по Васюгану птицы.
Сидели у костров, завтракали. Бабы нажарили язей, напекли белых пышек из государственной муки, выданной коммуне наряду с двумя неводами, двумя баркасами, двенадцатью лодками, двадцатью охотничьими ружьями, с припасом «в порядке поддержки рабоче-крестьянской власти коммунистических устремлений бедноты и батрачества», как говорилось в постановлении губисполкома.
Ели у костров на длинных столах, сколоченных из толстых кедровых плах. Ели не спеша, деловито и основательно: впереди предстояла тяжелая работа.
– Лодка на реке! – вдруг крикнул Алешка, выскакивая из-под прибрежного куста, где он сидел с самого рассвета с удочками.
Коммунары отодвинули еду, встали из-за столов, потянулись один за другим поближе к реке. Отсюда, с изгиба берега, хорошо, насквозь просматривался и нижний плес, прямой как стрела, и верхний плес, круглый и тихий, как таежное озеро. Лодка плыла по этому верхнему плесу, ближе к левому берегу, возле которого было все-таки небольшое течение.
– Откуда же он плывет? И кто он?
– А может быть, он не один!
– А что, возьмет помашет нам платочком, и был таков, – переговаривались коммунары.
Подошла Лукерья, сложила руки крестом на груди, прислушалась к разговору, поблескивая глазами, с усмешкой сказала:
– Эка невидаль – человек едет! Совсем скоро одичаем, друг на дружку бросаться начнем.
– Тебе, Лукерьюшка, такое в привычку. Тебе только моргни, ты в момент фонарей Терехе под глаза наставишь, – съязвил под смех коммунаров Митяй.
– Черт ты сухоребрый! Язык у тебя, как помело, всяку грязь метет! – не осталась в долгу Лукерья.
Митяй не ждал такого удара, на мгновение опешил, тараща глаза на молодую, гибкую Лукерью, смачно выплюнул окурок, собираясь сказать ей в ответ такое, что аж лес закачается. Но Бастрыков опередил его:
– Не груби ей, Митяй. Грубостью не убедишь. Вот подожди: она сама скоро нашу жизнь поймет…
Лукерья отступила на шаг, внимательно, благодарным взглядом посмотрела на Бастрыкова.
– Спасибо тебе, Роман. Будь все такие, как ты, не то что коммунию – царство небесное на земле люди давным-давно воздвигли бы.
Бастрыков ухмыльнулся в клочковатую бородку, приветливо взглянул на рослую красавицу, вразумляющим тоном сказал:
– Коммуния, Лукерья, куда лучше царства небесного. Это царствие для мертвых, коммуния же для живых.
– Тять, в лодке остяк, в платке, с трубкой в зубах! – снова подал голос глазастый Алешка.
Все замолкли, пристально всматриваясь в приближавшегося человека. Вскоре стало видно, что человек плывет в легком обласке, по бортам обитом свежим ободком из черемухового прута. На середине обласка в железном ведерке курится синеватым дымком огневище. Таежный человек без огня ни шагу. И против гнуса и против зверя огонь – первое средство. Тлеет на угольках березовый нарост – трут, источает горьковатый запах. Без этого запаха остяк дня не проживет, как не проживет он и одного часа без крепкого табака. Приткнется остяк к берегу, сунет уголек под горсть сухого мха, а запылает огонь во всю силу.
– Здравствуй Ленин, а царь Миколашка нет! – закричал остяк, размахивая веслом.
– Ты смотри-ка, Роман, он про политику, – подмигнул Васюха Степин.
– Чует трудовой люд нашу Ленинску природу, – с важностью в голосе заключил Митяй.
Бастрыков разглядывал гостя.
Когда обласок ткнулся в песчаную косу, остяк поднялся, вышел на берег. Это был маленький, сухонький старичок с желтым морщинистым лицом, жидкими – в три волоска – усами и такой же бородкой, росшей на шее. Подслеповатые глаза его в красных, воспаленных веках слезились. Щеки запали, скулы заострились. Остяк был в броднях и ветхих, латаных штанах. Жесткая, полубрезентовая рубаха, прогоревшая по подолу, висела на нем, как бесформенная мешковина. Седая голова была по-бабьи повязана пестрой, ношеной-переношеной тряпкой. Чуткая к чужой нужде, отзывчивая на всякое горе душа Бастрыкова содрогнулась. Он заторопился навстречу бедняку, протягивая руку. Но старик, завидев его приближение, упал на колени, вскинул руки, забормотал:
– Здравствуй, большой начальник! Ёська пить-есть хочет. Ёська зверя бить хочет. Порфишка припас прячет, соболя дай, белку дай.
Смущенный Бастрыков подхватил старика под мышки, поднял его, поставил на ноги, виновато сказал:
– Так нельзя, дружище! Не старое время. Знай, я не начальник. Я председатель коммуны. А у нас все равные… Лукерья, приготовь-ка ему что-нибудь. Перво-наперво покормить его надо.
Остяка увели к столам, посадили, окружили стеной.
Он обжигался горячими пышками, жадными глотками пил сладкий, с сахаром, чай. Бастрыков посоветовал коммунарам идти на работу. При себе оставил Васюху Степина и Митяя. Остался, конечно, Алешка, не спускавший глаз с остяка.
Когда старик подкрепился и, набив табаком самодельную трубку с длинным березовым мундштуком, украшенным латунным колечком, задымил, мужики принялись расспрашивать, какая нужда заставила его приехать в коммуну. Старик сморщился, запыхтел, из воспаленных глаз потекли слезы.
– Ёська жить хочет. Ёська бабу кормит, парня кормит, девку кормит… Порфишка-купец товар прячет, припас прячет…
Старик рассказывал долго. Он то плакал, то негодовал, потрясая сухонькими, в пятнах смолы и ссадинах кулачками, то плевался желтой табачной слюной. Мужики слушали, стараясь правильно понять сбивчивый рассказ.
– Стало быть, дружище, – заговорил Бастрыков, – ты у коммуны подмоги просишь. Знай сам и другим расскажи: подмогу мы тебе окажем, хоть сами мы небогаты. Муку дадим и припас дадим. Наша вера такая: есть у тебя кусок – отломи от него и товарищу дай.
Ёська соскочил со скамейки, намереваясь снова встать перед Бастрыковым на колени. Но Митяй довольно бесцеремонно схватил старика за шиворот и опять посадил на скамейку.
– У коммунаров, братуха, равенство-братство и все, что есть, мое – твое, твое – мое.
Старик понял, что Митяй сказал что-то очень значительное, и принялся ему кланяться.
Васюха Степин, назначенный общим собранием коммунаров заведовать складами, направился под навес, где, прикрытый брезентами, лежал продовольственный запас коммуны, а также в особом ящике порох, дробь, пистоны, несобранные, все в смазке, двуствольные ружья центрального боя.
Пока Васюха отвешивал на скрипучем, изржавленном кантаре муку, Бастрыков и Митяй разговаривали с остяком.
– А что, дружище, много вас тут по Васюгану обитается? – спросил Бастрыков, не переставая смотреть на старика участливыми, с ласковой искринкой глазами.
Остяк в задумчивости стянул к губам подвижные морщины, перебирая пальцы, долго молчал, потом заговорил неожиданно оживленно и даже бойко:
– Ёська все здесь знает. В устье бывал, в вершине бывал, на большом болоте зверя бил. На Чижапке птицу промышлял. Ёська считать будет – слушай: стойбище Югино – пять юрт, еще пять юрт, еще две юрты.
– Двенадцать юрт, – подытожил Митяй.
– Стойбище Маргино – пять юрт, еще две юрты.
– Двенадцать юрт плюс семь юрт, итого девятнадцать юрт, – вел свой счет Митяй. – Стойбище Наунак… много юрт?
– Ну все-таки скажи, сколько там юрт? Намного Наунак больше, чем Югино? – заинтересовался Бастрыков.
Старик вскинул голову, повязанную платком, уставился подслеповатыми глазами куда-то в небо, твердо сказал:
– Наунак два Югино и еще Маргино.
– Двадцать четыре плюс семь будет тридцать один.
Значит, в твоем Наунаке, отец, тридцать одна юрта, – быстро подсчитал Митяй.
– Будет так, – утвердительно кивнул старик.
– А где живет Порфишка? – спросил Бастрыков, с усмешкой взглянув на Митяя.
– А, язва ему в брюхо! – Остяк сердито махнул рукой и опасливо огляделся. – Порфишка сильно худой человек… До него от вас семь плесов. – Старик погрозил полусогнутым пальцем в пространство. – Помирать будет – Бог спросит: за что, Порфишка, остячишков мучал? Зачем братишку Кирьку стрелял?
– Нет, дружище, так не пойдет, – замахал кудлатой головой Бастрыков. – Об этом Порфишку надо до его смерти спросить и на Бога эту работу не перекладывать.
– У коммунаров, братуха, так: на бога надейся, а сам не плошай, – засмеялся Митяй и обнял худенького, сгорбленного старика.
Остяк понял Митяевы слова, тронутый лаской, заглянул ему в лицо:
– Смелый ты, а Порфишка хитрый. Днем следы прячет, ночью живет.
– Ты позволь мне, Роман, съездить к этому Порфишке, испытать его хитрость.
– Подожди, Митяй, вместе поедем. Я тоже хочу на этого зверя посмотреть. Пусть знает: остяков обижать не дадим!
Алешка не упустил подходящего случая, встрял в самый решающий момент:
– Я, тятя, вместе с Митяем в греби сяду. Ты в корму. Ладно будет?
Подошел Васюха Степин с узелком и мешком в руках.
– Ну вот тебе, отец, пуд муки и на двести зарядов пороха и дроби.
Такой щедрой помощи остяк не ожидал. Он встал, посмотрел просветленными глазами на Васюху и Бастрыкова, на Митяя с Алешкой, размахнул руками, как бы заключая их в объятия. Потом не по-стариковски проворно сгреб узелки и мешок с мукой и бросился рысцой к лодке, как бы опасаясь, не отнимут ли у него полученное сокровище.
– Таежна душа, а ласку чует не хуже нас, – заметил Митяй.
Когда лодка остяка заскользила по воде, удаляясь от берега, Бастрыков сказал:
– Наша коммуна для них – защита от всех бед. И путь у них один – к нам.
Георгий Марков
Отец и сын (сборник)
Отец и сын. Роман
Книга первая
Глава первая
В знойную июльскую пору тысяча девятьсот двадцать первого года вверх по Васюгану плыли караваном проконопаченные паклей с варом, просмоленные тесовые лодки. В лодках под брезентом и берестой - груз, на кормовых и носовых лавках - мужики, бабы, ребятишки. Лодки осели в воду по самые верхние бортовины и двигались медленно, тяжело, будто взбирались на крутую гору. Хотя река Васюган тихая, без волны, и темная-темная, как из навара чаги, а все ж не стоит она на месте, катит непроглядное, мутное месиво из воды, ила, древесного мусора к глубоким обским омутам. В версте от каравана - два баркаса. В них - кони и коровы на тугих привязях.
Взрывая вековечную тишину Васюгана, гулко хлопали о воду плицы гребей, пронзительно взвизгивали от натуги уключины, перекрикивались по-богатырски звонкими и сильными от эха голосами горластые мужики.
Старый, матерый глухарь взгромоздился на сухую вершину высоченного кедра, вытянул вороненую шею и замер, будто окаменел. Птичий век его подходил к концу, а такого скопления людей ему видывать на этой безмолвной реке не доводилось.
На третий день пути Васюган изогнулся, словно змея перед прыжком, и рассек глухую холмистую тайгу длинным и прямым, наподобие охотничьего ножа, плесом. Слева поднимался белый, чуть не меловой яр в отменных лесах: кедр, сосна, береза - и все как на подбор; а справа тянулся серебрящийся и днем, и в лунные ночи песок, чисто промытый в половодье. Вдоль реки по песку стояла зеленая стена из тополей, ветлы и тальника. За этой стеной расстилались гладкие, покрытые густой травой заливные луга. Вдали их разбег преграждала непроглядная, дремучая тайга. Она сливалась с небом, и думалось, нет у нее ни конца ни края.
Когда прямой плес пошел на закругление, первая лодка причалила к берегу. Из нее выпрыгнул высокий длиннорукий мужик. Он был в броднях с завернутыми голенищами, в просторных холщовых шароварах, в сатиновой рубашке без пояса. Большую лобастую голову покрывали волнистые, почти кудрявые светло-русые волосы. На щеках и под губами лохматилась небогатая бородка, тоже почти кудрявая. На сухощавом лице - крупный нос и неспокойные серые глаза, зоркие, в прищуре, диковатые, как у рассерженной рыси, а минутами добрые, буйно-веселые. Это был Роман Захарович Бастрыков.
Правь сюды! - крикнул он кормовым в лодках и зазывно замахал руками.
Чуем, Роман! - отозвались с лодок, и они одна за другой повернули к берегу.
Ну айда, ребятушки, на смотрины, - сказал Бастрыков мужикам, вместе с ним сошедшим с лодки.
Сокрушая бурьян сильными ногами, Бастрыков шагнул прямо в чащобу леса, полез в гору. За ним цепочкой потянулись: толстый, с повисшей сухой рукой Васюха Степин; его братан Митяй - жилистый, гибкий парень с отчаянными, озорными глазами и усмешкой на веснушчатом лице; грудастый силач Тереха, крепкий и тяжелый, будто выпиленный из лиственничного сутунка, и десятилетний парнишка, щуплый цыпленок, розовощекий и светлоглазый, как девчонка, Алешка, сынок Бастрыкова, нигде и никогда не покидавший отца. Лес скрыл мужиков, голоса их стали неразборчивыми, а потом и вовсе затерялись в неподвижной немоте тайги.
Лодки пристали, но на берег никто сходить не рисковал: а вдруг придет Роман с мужиками и доведется снова плыть по Васюгану дальше и дальше?
Ждали долго - может быть, час, а то и поболе. Вот стал слышен хруст сушняка под ногами мужиков, потом их говор. Они были веселы, разговаривали громко, смеялись, Митяй Степин присвистывал и от озорства и от удовольствия. Гоготал и сам Роман Бастрыков. Его любимец Алешка попискивал наподобие бурундучка тонюсенько-тонюсенько, будто дул в соломинку.
Над чем вы там ржете-то, как жеребцы стоялые? - крикнули с лодок, когда головы мужиков замелькали в прибрежном бурьяне.
Алешка обогнал всех, подбежал к лодкам первым, давясь смехом, принялся рассказывать:
Михайла Топтыгин… учудил… Идем, а он на полянке балуется… Испужались мы… убечь хотели. А тятя говорит: «Давайте тумнем все разом». Мы и крикнули. Ка-а-ак он сиганет! И пошел и пошел, только хруст стоит. Так перепужался, что с перепугу всю поляну обмарал…
Алешка закинул вихрастую головенку, залился звонким смехом.
Господи боже, и куды нас нелегкая занесла! - запричитала на одной из лодок баба, повязанная, невзирая на жару, теплым полушалком.
А если б он кинулся на вас - тогда что? Голой рукой разве его возьмешь?! Подмочил бы ты тогда, Алешка, штаны-то! - ухмыльнулся кормовой самой большой лодки Иван Солдат, степенный мужик со смолево-черной окладистой бородой.
Голой рукой?! А вот он - топор! Хрясь по черепку между глаз - и готов! - подходя к лодкам, сказал Митяй и поиграл топором, перебрасывая его из руки в руку.
Последним вышел из лесу Бастрыков. Люди в лодках примолкли, бросали на него нетерпеливые и вопрошающие взгляды. Бастрыков вытер рукавом рубахи взмокшее, в крупных каплях пота, раскрасневшееся лицо.
Тут и осядем, братаны.
Обскажи выгоды, - попросил Иван Солдат.
И все вокруг насторожились, чтобы не упустить чего.
Перво-наперво - место, - заговорил Бастрыков. - Видимость во все стороны. Мы видим, и нас видят. Избы срубим по яру, вдоль реки. Лес тут же: сосна, ель, пихта. Что тебе по душе, то и руби. Чуть подале - кедрач, а раз кедрач, то и орех, и зверь, и ягоды под рукой.
А под пашню чистина найдется? - спросила баба, низко повязанная полушалком. На нее зашикали: не перебивай, мол, дойдет черед и до этого, Роман не без головы.
Но Бастрыков услышал и ответил без промедления:
Чистины есть, а только сразу не вспашешь. Выжигать и корчевать придется.
Ой, мужики, насидимся без хлеба! - воскликнула баба.
Проживем, Лукерья! Рыба, дичь, ягода…
Обсказывай, Роман, выгоды…
Ну, вон напротив нас луга, - продолжал Бастрыков. - Есть где скотине мясо и жир нагуливать. А рядом с нами еще одна речка. - Он махнул длинной рукой. - Вот этот заливчик устье обозначает. В случае, если в большой реке рыбы нету, в малой ее будем брать…
Будто для нас сотворено это место, - подтвердил Васюха Степин.
От добра добра не ищут. Давайте выгружаться да балаганы к ночи готовить. Не ровен час гроза соберется. Припаривает, как в бане. - Иван Солдат похлопал себя широкой ладонью по нечесаной, лохматой голове.
С богом! Не один ли шут, где помирать: здесь или еще где. - Лукерья встала, сбросила с себя полушалок и, сразу чудом помолодевшая, легко и ловко выпрыгнула из лодки.
Ты у меня докаркаешься! - крикнул на жену Тереха и угрожающе, без шутки, поднял кулаки-кувалды на уровень крепкой, выгнутой груди.
Мужики, бабы, ребятишки - все кинулись из лодок на берег. Митяй подошел к толстой сосне, ловкими ударами топора стесал боковину. Алешка сбегал в лодку, принес банку со смолой, Митяй корявыми буквами вывел: «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”.
Как, Роман, вывеска подходяща? - спросил он, когда работа была окончена.
Бастрыков сидел на пеньке, плановал с мужиками, как расставить балаганы, где поместить общую кухню и построить склад для хранения припасов и прочего имущества.
Какая вывеска? - Бастрыков озабоченно взглянул на Митяя и своего сынка Алешку, который, как вьюн, крутился то возле отца, то возле парня.
А вона… Пусть все знают, что пришла на Васюган советска власть и коммуния, - указывая на толстую прибрежную сосну, с торжественностью в голосе произнес Митяй.
Глянь, тятя, глянь! - схватив отца за руку, Алешка тянул Романа за собой.
Бастрыков встал, подошел к сосне. Мужики все до едина двинулись за Романом.
Около сосны Роман остановился, уставил длинные руки в бока, откинул голову и замер с тихой улыбкой на губах.
Эх, чертяка, угораздил! - Бастрыков бросил на Митяя довольный взгляд. - Вывеска неслыханна, никто мимо такой вывески не пройдет, не проедет. - Он прищурил глаза, вслух по складам прочитал: - «Сдеся поселилась сельскохозяйственна коммуна “Дружба”. - Потом произнес эти слова еще и еще раз. По гордой осанке, по задорно взбитой бороденке, по блаженству, которое отражалось на худощавом, забронзовевшем на солнцепеке лице, чувствовалось, что слова эти вызывают в душе Романа и радость и гордость и нет в жизни у него слов, которые были бы сейчас дороже этих.
Тереха сердито покосился на жену, и опять его увесистые кулаки угрожающе поднялись. Но Бастрыков посмотрел на Тереху осуждающе и Лукерье ответил с подчеркнутым уважением:
Для самих себя это, Лукерья! Мало ли люди напридумали себе всяких удовольствий. Ну вот и мы: знай, дескать, наших, как-никак - коммунары!
Да разве мы одни тут? Раскиданы здесь люди, как суслоны по пашне, - сказал Васюха Степин и повернулся к брату. - Доброе дело Митюшка придумал.
Остяк, он хоть и не прочитает, потому что темен, а заметить - заметит. Глаз у него страсть какой зоркий, - обращаясь по-прежнему к Лукерье, пояснил Бастрыков. - И любопытен он, как ребенок. Вот пройдет слух, что мы на Белом яру поселились, и зачтут они к нам ездить… Придется привечать. Угнетенный был народ, обиженный…
Парижски коммунары всем трудовым людям дружки были. Абы ты черны мозолисты руки имел, - хвастнул своими познаниями Митяй.
Алешка взглянул на него с завистью и поближе встал к парню. Тот, к великой радости мальчишки, обнял его при всех.
Ну, братаны, дело надо делать, - сказал Бастрыков. - Одни будут лес валить, другие с неводом на рыбалку поедут. Вася, ты тут на берегу за старшего, а я там - на воде.
А где я буду, тятя? - влез в разговор Алешка.
Где иголка, там и нитка, - ласково усмехнулся Бастрыков.
А Митяй куда пойдет, тятя?
Митяй - лесоруб. Пойдет лес валить.
Алешка задумался: хорошо бы пойти с Митяем, весело с ним, но жалко покидать и отца, с ним всегда спокойно, хорошо: что не знаешь - он расскажет, что попросишь - непременно уважит, сделает.
А ты, может, со мной, Алешка, пойдешь котелки чистить? - подскочила к парнишке Мотька - дочь Васи Степина, крепкая, мускулистая девка, проворная, как огонь.
Вались-ка ты со своими котелками в болото, - отмахнулся Алешка и заспешил вслед за отцом.
Ушли мужики на работу, и опустел взлобок около обтесанной сосны. Остались тут одни бабы выгружать пожитки, только Лукерья отошла в сторону, привалилась к сосне, окинула взглядом по лихорадочному мятежных черных глаз широкий разлет лугов, блестящую, всю в золотых бликах реку, яр с нависшими над круговертью бездонных омутов соснами и березами, тяжело вздохнула. Нет, чужим и неприветливым казался ей этот далекий, пустынный край. Ни обилие рыбы в непроглядной, темной реке, ни эти безлюдные просторы, полные нетронутого богатства, ни радости коммунарской жизни, которые с такой щедростью обещал Роман Бастрыков, - ничто не трогало Лукерьиного сердца. Неужели ради прозябания тут, в этой глуши, стоило бросать насиженное гнездо в хлебопашеской родной сторонке, плыть пять суток на полуразбитом пароходишке все к северу, все к северу, а потом скрестись три дня на утлых лодчонках, рискуя в любую минуту наскочить на коварный подводный карч? Нет…
Лукерья закрыла лицо полушалком, всхлипнула.
Лукерья вздрогнула, выпрямилась.
«Господи, хоть бы ты-то, постылый, забыл меня в этот час! Ни детей с тобой не прижито, ни добра с тобой не нажито».
Вдруг на яру ударили острые топоры, рассыпался по тайге их стукоток, потом зазвенели поперечные пилы, рассекая дремотную тишину знойного полудня, рухнула первая сосна, да так рухнула, что земля задрожала.
Лукерья торопливо перекрестилась, со стоном произнесла:
Батюшки светы, неужто не будет конца этой распрочертовой жизни!..
Глава вторая
Никто, ни один посторонний человек не видел, как выгружались из лодок коммунары, как они три дня и три ночи без передышки ладили балаганы, амбар, рубили лес на постройку домов. Рано утром на четвертый день жизни у Белого яра произошел случай, который хочешь не хочешь заставил думать, что весть о прибытии коммунаров разнесли по Васюгану птицы.
Сидели у костров, завтракали. Бабы нажарили язей, напекли белых пышек из государственной муки, выданной коммуне наряду с двумя неводами, двумя баркасами, двенадцатью лодками, двадцатью охотничьими ружьями, с припасом «в порядке поддержки рабоче-крестьянской власти коммунистических устремлений бедноты и батрачества», как говорилось в постановлении губисполкома.
Ели у костров на длинных столах, сколоченных из толстых кедровых плах. Ели не спеша, деловито и основательно: впереди предстояла тяжелая работа.
Лодка на реке! - вдруг крикнул Алешка, выскакивая из-под прибрежного куста, где он сидел с самого рассвета с удочками.
Коммунары отодвинули еду, встали из-за столов, потянулись один за другим поближе к реке. Отсюда, с изгиба берега, хорошо, насквозь просматривался и нижний плес, прямой как стрела, и верхний плес, круглый и тихий, как таежное озеро. Лодка плыла по этому верхнему плесу, ближе к левому берегу, возле которого было все-таки небольшое течение.
Откуда же он плывет? И кто он?
А может быть, он не один!
А что, возьмет помашет нам платочком, и был таков, - переговаривались коммунары.
Подошла Лукерья, сложила руки крестом на груди, прислушалась к разговору, поблескивая глазами, с усмешкой сказала:
Эка невидаль - человек едет! Совсем скоро одичаем, друг на дружку бросаться начнем.
Тебе, Лукерьюшка, такое в привычку. Тебе только моргни, ты в момент фонарей Терехе под глаза наставишь, - съязвил под смех коммунаров Митяй.
Черт ты сухоребрый! Язык у тебя, как помело, всяку грязь метет! - не осталась в долгу Лукерья.
Митяй не ждал такого удара, на мгновение опешил, тараща глаза на молодую, гибкую Лукерью, смачно выплюнул окурок, собираясь сказать ей в ответ такое, что аж лес закачается. Но Бастрыков опередил его:
Не груби ей, Митяй. Грубостью не убедишь. Вот подожди: она сама скоро нашу жизнь поймет…
Лукерья отступила на шаг, внимательно, благодарным взглядом посмотрела на Бастрыкова.
Спасибо тебе, Роман. Будь все такие, как ты, не то что коммунию - царство небесное на земле люди давным-давно воздвигли бы.
В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меншиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, — сверкал кривой нож. — Остановись! — вскрикивал Данила страшным голосом, — убью!.. — Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево. Больше года Алексашка не видел отца, и вот — встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали — поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу. Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно — в белых чулках и в зеленом не русском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный и пестрый, — теперь зарос листвой, приходил в запустение. У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, — должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку: — Эй, нашу рыбу пугать... Смотри, портки снимем, переплывем, — мы тебя... Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять: — Ты кто, чей? Мальчик... — А вот велю тебе голову отрубить, — проговорил мальчик глуховатым голосом, — тогда узнаешь. Сейчас же Алешка шепнул Алексашке: — Что ты, ведь это царь, — и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство: — Погоди, убежать успеем. — Закинул удочку, смеясь, стал глядеть на мальчика. — Очень тебя испугались, отрубил голову один такой... А чего ты сидишь? Тебя ищут... — Сижу, от баб прячусь. — Я смотрю, — ты не наш ли царь. А? Мальчик ответил не сразу, — видимо, удивился, что говорят смело. — Ну — царь. А тебе что? — Как что... А вот ты взял бы да и принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку. пристально, не улыбаясь.) Ей-богу сбегай, принесешь, — одну хитрость тебе покажу. — Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. — Гляди — игла, али нет?.. Хочешь, — иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет. — Врешь? — спросил Петр. — Вот — перекрещусь. А хочешь — ногой перекрещусь? — Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше. — Еще бы тебе царь бегал за пряниками, — ворчливо сказал он. — А за деньги иглу протащишь? — За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет. — Врешь? — Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам. Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость, — три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой, — и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами. — Дай-ка иглу, — сказал нетерпеливо. — А ты что же — деньги-то? — На! Алексашка налету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: — Не хуже тебя, не хуже тебя! — Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, должно быть, учить бояр протаскивать иголки. Рубль был новенький, — на одной стороне — двуглавый орел, на другой — правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны, с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками. — Пустяками занимается, — говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой. В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмесило грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много, — все проедал, да еще и норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся по пояс голый, на морозе, — будто немой, параличный, — много выжаливал денег. Бога гневить нечего, — зиму прожили не плохо. И опять — просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дела по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем шататься по базарам, вечером — в рощу — ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И нежданно, негаданно — наскочил... Всю старую Басманную пробежал Алексашка, — начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, — слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну — конец! «Карауууул!» — пискливо закричал Алексашка. В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала. Алексашка отдыхивался, сидя на запятках, — надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, — с длинными кудрями, но лицо бритое. «Франц Лефорт», — ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки. «Мать честная, вот живут чисто», — подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда, — по краям его стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему — кабака, плясали, сцепившись, парами девки с мужиками. Повсюду ходили мушкетеры — в Кремле суровые и молчаливые, здесь — в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали — без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле, — глаза впору протереть... Вдруг въехали на широкий двор, посреди его из круглого озера била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку. — Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? — спросил он, смешно выговаривая слова. — Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты — вор? — Это я — вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. — Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом. — Видел, как на Разгуляе отец бежал за мной с ножом? — А! Да, видел... Я засмеялся: большой за маленьким. — Отец меня все равно зарежет. Возьми, пожалуйста, меня на службу... Дяденька... — На службу? А что ты умеешь делать? — Все умею. Первое — петь, какие хошь, песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, — сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать — на заре начну, на заре кончу, и не вспотею... Что мне скажешь, — то и могу. Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился. — О, ты изрядный мальчик... Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты грязный... И тогда я тебе дам платье. Ты будешь служить. Но если будешь воровать... — Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть, али нет, — сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки.