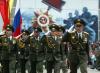Нет, нет и нет! - настойчиво заговорил Борменталь, - извольте заложить.
Ну, что, ей-богу, - забурчал недовольно Шариков.
Благодарю вас, доктор, - ласково сказал Филипп Филиппович, - а то мне уже надоело делать замечания.
Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.
Как это так “примите”? - расстроился Шариков, - я сейчас заложу. Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.
Я еще водочки выпью? - заявил он вопросительно.
А не будет ли вам? - осведомился Борменталь, - вы последнее время слишком налегаете на водку.
Вам жалко? - осведомился Шариков и глянул исподлобья.
Глупости говорите... - вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.
Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.
Борменталь указал на заклеенный буфет.
Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, - произнес профессор. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на
Борменталя, налил рюмочку.
И другим надо предложить, - сказал Борменталь, - и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.
Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
Вот все у вас как на параде, - заговорил он, - салфетку - туда, галстук - сюда, да “извините”, да “пожалуйста-мерси”, а так, чтобы по-настоящему, - это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.
А как это “по-настоящему”? - позвольте осведомиться.
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:
Ну желаю, чтобы все...
И вам также, - с некоторой иронией отозвался Борменталь.
Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.
Стаж, - вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.
Борменталь удивленно покосился.
Виноват...
Стаж! - повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, - тут уж ничего не поделаешь - Клим.
Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:
Вы полагаете, Филипп Филиппович?
Нечего полагать, уверен в этом.
Неужели... - начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.
Тот подозрительно нахмурился.
Spатеr... - негромко сказал Филипп Филиппович.
Gut, - отозвался ассистент.
Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.
Я не хочу. Я лучше водочки выпью. - Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.
Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.
Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? - осведомился он у Шарикова.
Тот поморгал глазами, ответил:
В цирк пойдем, лучше всего.
Каждый день в цирк, - благодушно заметил Филипп Филиппович, - это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.
В театр я не пойду, - неприязненно отозвался Шариков и перекосил рот.
Икание за столом отбивает у других аппетит, - машинально сообщил Борменталь. - Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?
Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.
Вы бы почитали что-нибудь, - предложил он, - а то, знаете ли...
Уж и так читаю, читаю... - ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.
Зина, - тревожно закричал Филипп Филиппович, - убирайте, детка, водку больше уже не нужна. Что же вы читаете?
В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. “Надо будет Робинзона”...
Эту... как ее... переписку Энгельса с эти м... Как его - дьявола - с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:
Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
Шариков пожал плечами.
Да не согласен я.
С кем? С Энгельсом или с Каутским?
С обоими, - ответил Шариков.
Это замечательно, клянусь богом. “Всех, кто скажет, что другая...” А что бы вы со своей стороны могли предложить?
Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...
Так я и думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал.
Вы и способ знаете? - спросил заинтересованный Борменталь.
Да какой тут способ, - становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, - дело нехитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов, у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет...
Насчет семи комнат - это вы, конечно, на меня намекаете? - Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
Шариков съежился и промолчал.
Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?
Тридцати девяти человекам, - тотчас ответил Борменталь.
Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам - Зину и Дарью Петровну - считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.
Хорошенькое дело, - ответил Шариков, испугавшись, - это за что такое?
За кран и за кота, - рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.
Филипп Филиппович, - тревожно воскликнул Борменталь.
Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...
Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, - подлетел Борменталь.
Вы стоите... - рычал Филипп Филиппович.
Да она меня по морде хлопнула, - взвизгнул Шариков, - у меня не казенная морда!
Потому что вы ее за грудь ущипнули, - закричал Борменталь, опрокинув бокал, - вы стоите...
Вы стоите на самой низшей ступени развития, - перекричал Филипп Филиппович, - вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... А в то же время вы наглотались зубного порошку...
Третьего дня, - подтвердил Борменталь.
Ну вот-с, - гремел Филипп Филиппович, - зарубите себе на носу, кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? - Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?
Все у вас негодяи, - испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.
Я догадываюсь, - злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.
Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Что я развивался...
Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, - визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!
Зина! - кричал Борменталь.
Зина! - орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
Зина, там в приемной... Она в приемной?
В приемной, - покорно ответил Шариков, - зеленая, как купорос.
Зеленая книжка...
Ну, сейчас палить, - отчаянно воскликнул Шариков, - она казенная, из библиотеки!
Переписка - называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!
Зина улетела.
Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, - сидит изумительная дрянь в доме - как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.
“Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире”, - вдруг пророчески подумал Борменталь.
Зина унесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.
Я не буду ее есть, - сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.
Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.
В молчании закончился обед.
Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетитор и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.
Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе - котов нету?
И как такую сволочь в цирк пускают, - хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
Ну, мало ли кого туда допускают, - двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, - что там у них?
У Соломонского, - стал вычитывать Борменталь, - четыре какие-то... юссемс и человек мертвой точки.
Что за юссемс? - Подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
Бог их знает. Впервые это слово встречаю.
Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.
У Никитиных... У Никитиных... Гм... Слоны и предел человеческой ловкости.
Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Недоверчиво спросил Филипп Филиппович.
Тот обиделся.
Что же, я не понимаю, что ли. Кот - другое дело. Слоны - животные полезные, - ответил Шариков.
Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.
Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы “к берегам священным Нила...” И что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.
Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:
Ей-богу, я, кажется, решусь.
Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетитор в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.
А то и плагин для ворда. Похоже...
Пишешь:"Я пошла туда-то в дурном настроении, там мне не понравился интерьер, гости просто грязь, что ела не помню, а еще официант хамло", нажимаешь кнопку... А оно из подгруженной библиотеки конструирует:
"С традиционным утренним походом в "***е" не сложилось, т.к. нужно было идти в еще одно неприятное место (продолжаю "добивать" свой черный список), а мастер отказался принять меня после 22-х. Кстати, удивительно непрофессиональная манера общения! Но я уже привыкла, в Санкт-Петербурге вообще все удивительно непрофессионально коммуницируют, в хороших ресторанах (их здесь полтора) -- это вообще норма, и даже в уверенно-проверенном "***е*, где, замечу, вообще не матерятся и говорят исключительно в стол, такое иногда случается.
Зашла в зал -- интерьер сразу же показался мне недостаточно жантильным, хотя удобные посадки присутствуют. Ресторан тщательно-стилизованный, довольно намоленный, это, безусловно, качественно сделанный бизнес-проект, хотя элементы кооперативного шика и, конечно, чистенькую, но все-таки вполне уже привычную петербургскую бедность не изжить.
Публика -- неинтересные люди. По внешнему виду этих почти горьковких персонажей совершенно очевидно, что в Санкт-Петербурге еще лишь единицы могут позволить себе каждый день ходить в ресторан (например, я в ресторанах работаю (на ноутбуке)), а не копить на поход весь месяц. Традиционно присутствует громко- и матоговорние, и это меня ничуть не удивляет. Однако на одной посадке были замечены интересные мужчины, явно из Москвы, в костюмах, двое из них англо-саксонского вида. Да, кстати, говорили исключительно в стол, тихим внутренним голосом. Мата услышать, конечно, не удалось.
Официантка, скромная девушка с Урала, вполне дееспособна, я даже имела с ней небольшой small talk. Кстати, цены на еду вполне дешевые. В коммуникации она, конечно, проигрывает московским девушкам из Харькова, но все у меня получилось равно довольно занятное "занятие" 20-ти минут. Наш разговор бестактно прервал другой официант (по всей видимости не с Урала, а еще дальше), принес мой заказ.
Ела картофельное пюре. Мято-вкусное, кремово-взбитое -- очаровательное, такое тщательно-сделанное картофельное пюре.
Управляющий прошел мимо меня и даже не заметил. Я всегда говорю только правду. Безусловно, все та же традиционная петербургская непрофессиональная манера вести коммуникацию. Или просто проблемы с логикой. Здесь вообще у всех проблемы. Не уверена за точность эпитета, но это все так очень москво-отдаленно.
Я лояльна и воспитана, поэтому оставила на чай 10%.
Место довольно забавное и работоспособное. Как бизнес-проект заведение имеет право на существование, но все-таки, как всегда, слишком по-питерски-неуклюже-выверенно, хотя пюре, повторюсь, очень вкусное. Возможно, мне не было "красиво" из-за того, что Yota ловила плохо. Или потому, что посадки были слишком заполнены (очевидно, я попала именно на тот день, в который идут в рестораны накопившие петербуржцы). Хотя, скорее всего, все дело в "***е", чувствую, что скоро и они меня разочаруют. В общем, в черном списке еще есть позиции.
Кстати, в Москве стейк-хаусы гораздо более приятные и "тщательные", не так ли?
Мне кажется, мы пока еще не до конца осознали, какую роль в нашей трагедии сыграл короткий период, известный под названием военного коммунизма. Конечно, идейные истоки ее можно поискать и в более отдаленных временах. Но то - теории, а военный коммунизм - это впервые практика. И потому именно там вижу я мировоззренческий исток и идеологическое зерно сталинщины, не сумевшее тогда прорасти и дать всходы, так как не было еще нужных условий.
Многие до сих пор считают, что политика тех лет воспринималась ее инициаторами как временная, вынужденная гражданской войной. Но если бы так было, то Ленин не стал бы называть военный коммунизм ошибкой. Нет, это была сознательная долговременная линия. Это была невиданная попытка трансплантации органов войны в ткань мирной жизни. Да, тогда произошло отторжение, операция не удалась, и кончилась она, к счастью, не смертью пациента, а свертыванием эксперимента, решительным отказом от всей этой гибельной затеи. Но военно-коммунистическая идеология не исчезла, осталась в головах, ждала своего часа. Что же она собой представляет?
Идеология трансплантации и соответствующая этой идеологии политическая линия впервые были детально разработаны на исходе гражданской войны тогдашним наркомом по военным делам Троцким. Факт известный. Вспоминая его, часто делают вывод: Троцкий и есть главный идейный вдохновитель и инициатор сталинщины. Если это и верно, то лишь отчасти. Во-первых, программа Троцкого разделялась руководством партии и была утверждена на IX ее съезде в присутствии и при поддержке Ленина. Во-вторых, в годы нэпа взгляды Троцкого хотя и отдавали по-прежнему левизной, но так далеко, как Сталин, он никогда не заходил, а идея насильственной коллективизации ему и просто не приходила в голову, наоборот, он был ее (коллективизации) непримиримым противником. Но факт остается фактом: главным идеологом трансплантации был наркомвоен. Он продумал предстоящий эксперимент до мелочей. Полнее всего, пожалуй, эта позиция представлена сегодня совершенно забытой, а когда-то нашумевшей, привлекшей внимание мировой общественности полемике Троцкого с Каутским - крупнейшим теоретиком германской и международной социал-демократии.
В 1919 году Каутский выпустил книгу «Терроризм и коммунизм», в которой резко раскритиковал большевистский режим, в том числе и его методы хозяйствования. Через год Троцкий ответил книгой под таким же названием, где пытался отвести критику и обосновать правомерность военно-коммунистической политики, доказать ее соответствие принципам социализма. Еще через год появился ответ Каутского под заголовком «От демократии к государственному рабству».
Мне кажется, современного читателя могут заинтересовать обе позиции. Критика Каутского вскрывает как очевидные слабости и несообразности военно-коммунистической доктрины, так и слабости позиции самого критикующего, историческую ограниченность той «демократической» разновидности социалистической идеологии, которую представлял оппонент Троцкого. В споре столкнулись не истина и самообман, а два самообмана, и оба они поучительны по сей день. Так как ни один из них не может служить лекарством от другого, потому что оба они - болезнь.
Каутский, хотя и был в то время далек от большевиков, в оценке военного коммунизма к истине был значительно ближе, чем его идеолог Троцкий. И не только потому, что политику эту пришлось отменить, но и потому, что было ее второе - исправленное и дополненное - сталинское издание, и оно-то уж не оставило никаких сомнений: нельзя заставить быть свободным ни человека, ни народ, даже если заставляют не египетские фараоны, а люди, действующие от имени самого передового класса и искренне верящие, что все другие классы свою роль уже отыграли; нельзя принуждением воспитать сознательное отношение к труду, а можно лишь отучить от него и вызвать к нему отвращение. Страх в состоянии обуздать порок. Но ему не дано превратить порок в добродетель. Страх может заставить ленивого работать. Но ему не дано сделать лень трудолюбием. Все это сегодня вещи очевидные, азбучно бесспорные. Но подготовленный читатель, прочитав старый диалог Каутского и Троцкого, заметит, наверное, и кое-что еще. Он обнаружит, что спорящие стороны при всем их непримиримом друг к другу отношении в чем-то существенном очень близки и - несовременны. И это действительно так.
Обратите внимание: спор у них - не о социализме, не о том, что он такое, а о том, как к нему двигаться, от какой точки начинать (российской или английской) и какую дорогу избрать. Насчет пункта назначения - полное единомыслие. И «диктатор» Троцкий, и «демократ» Каутский не сомневаются, что социализм - общество без товарно-денежных отношений и рынка, что люди, живущие в нем, будут проявлять трудовое усердие не ради презренного металла, а из соображений более высоких и благородных. В этом они ошиблись оба. Но в том, разумеется, смысл, что нетоварное ведение хозяйства невозможно вообще, в принципе. Об этом можно спорить и сегодня, тут история своего последнего слова еще не сказала. Но она сказала вполне определенно: индустриальное общество на бестоварной основе успешно развиваться не может, создать движущие силы научно-технической революции - тем более. Она сказала не менее определенно, что индустриальный рабочий, с которым связывали свои надежды и Троцкий, и Каутский, и не только они, не в состоянии осуществить прорыв в принципиально новую цивилизацию - ни в Англии и других западных странах, где ему так и не удалось победить, ни в России и последовавших ее примеру государствах, где после пролетарских революций возникли военно-бюрократические режимы сталинского типа. Уходя с исторической сцены, уступая место новому работнику эпохи НТР, он передает преемникам и свой идеал, а они, если примут наследство, то от чего-то, наверное, в нем откажутся, а в чем-то приумножат и обогатят его. Но это тема другая и особая. Пока же я еще раз обращаю ваше внимание на совпадение взглядов Троцкого и Каутского. Мне это важно, так как позволяет выявить степень научной добросовестности и гражданской честности иных авторов научно-популярных журналов, внушающих нам, что истоки всех наших бед нужно по-прежнему искать за пределами отечества, то есть в завезенных из-за рубежа идеях нетоварного хозяйства, и развязностью тона пытающихся убить в себе и в читателе такой естественный и столь необходимый для нашего духовного возрождения вопрос: почему же чужеземные идеалы эти на их родине не прижились и не восторжествовали не только во времена Каутского, но и до сих пор, а в нашей стране укоренились и успели принести столько бед?
Мне хотелось бы лишний раз указать на совпадение взглядов Троцкого и Каутского еще и для того, чтобы оттенить глубокий смысл так часто цитируемой сегодня ленинской реплики: переход к нэпу, то есть к товарной экономике, означает «коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм».
Что это было? Гениальное заблуждение? Или прорыв в новую и неизведанную реальность, который требовал уникального маневрирования и который некому было поддержать и возглавить, когда Ленина не стало? Эти вопросительные знаки еще долго будут тревожить наш ум и воображение. Определенно же можно сказать лишь одно: так получилось, что нэп, призванный заменить военный коммунизм, создал условия для его возрождения и прочного утверждения. В 1920 году операция по пересадке органов войны в мир с треском провалилась и в деревне (крестьянские восстания), и в городе (забастовки рабочих в Петербурге и Москве, кронштадтский мятеж). В 1929 году она прошла - для властей - вполне успешно. Город перенес ее благополучно и почувствовал даже - несмотря на опустевшие магазины и карточки - прилив новых сил, а деревня хотя и содрогнулась, взвыла от ужаса и страшной, нестерпимой боли, но была быстро успокоена сталинскими хирургами. Чтобы выяснить и объяснить другим, почему это стало возможно, нужно писать не статьи - тома.
Ясно, что Сталину удалось осуществить свой кровавый эксперимент над народом не только благодаря жестокости и решительности тех, кто исполнял его волю. И не только потому, что он внес некоторые поправки в старую программу Троцкого: если для крестьян она означала усиление гнета даже по сравнению с временами продразверстки, то военно-коммунистические опыты по переброске с места на место рабочих Сталин возрождать не стал, а для массовых трудовых десантов использовал второе свое уникальное изобретение, во всех отношениях не уступающее коллективизации, - трудармии лагерей.
Дело в том, что помимо насилия и варварских изобретений была еще идеологическая психотерапия, смутившая народную душу.
Еще раз о тех, кто вне культуры - «внизу» и «наверху».
Город поверил, что коллективизация - это победа великой идеи, светлый праздник освобождения деревни, добровольно устремившейся в «новую зажиточную жизнь». Город не знал или не хотел знать, что хлеб, который он получил по карточкам, а потом и без них, вырван изо ртов сельских ребятишек. Он не знал или не хотел знать, что карточки и прочие неудобства - не от зловредности «кулаков» и иных врагов, а от той политики, плоды которой называли в газетах победой колхозного строя. Эта психотерапия расколола не только деревню и город, сняв угрозу рабочих выступлений, сорвавших военно-коммунистические планы начала 20-х годов. Она расколола и саму деревню, где безлошадную бедноту (около трети сельских жителей) удалось воодушевить идеей коллективизации - добровольной для нее, бедноты, и насильственной для тех, кто согласно идеологическому диалогу страдал недугом собственничества и подлежал принудительному лечению.
Да, это был обман, равных которому в истории не сыщешь. Но я уже говорил: нельзя обмануть того, кто не готов обмануться. На не желающего быть загипнотизированным гипноз не действует. Троцкий был квалифицированным идеологом военного коммунизма и понимал это. Вспомните его мысль: принуждение невозможно, если народ сопротивляется ему. Говоря иначе, принуждение может быть успешным, если ему сопутствует воодушевление, энтузиазм, добровольничество: наркомвоен не случайно напомнил о субботниках, они были точкой опоры всей его идеологической конструкции.
Интересно, что Каутский этой «точки» не заметил, и потому его критика недостаточна, она не изнутри, а как бы со стороны, что скажется и потом, когда он так и не сможет объяснить причины устойчивости сталинского режима, будет все время ждать, что тот вот-вот рухнет, и торопить этот крах, и предсказывать его в книгах и статьях, но так и не дождется, а всерьез обсуждать столь непривычные для западного человека материи, как «массовый энтузиазм» и «трудовой героизм», так и не согласится.
Между тем военный коммунизм первого призыва потому и лопнул, что энтузиазма и героизма оказалось недостаточно. Люди готовы были безвозмездно отдавать свои свободные часы государству, чтобы приблизить победу над врагом. Но когда победа была одержана и врагов уже рядом не стало, а желанный мир оказался таким голодным и холодным, источник воодушевления иссяк. И сразу померк свет в конце туннеля: манящий образ будущего исчез, растворился в безысходных буднях, непомерная, нечеловеческая усталость согнула, не давала распрямиться. И тут же отказала вся система принуждения.
Да, пересадка органов войны в мирную хозяйственную жизнь невозможна, если нет внешней угрозы (подлинной или выдуманной), а внешняя угроза никого не сплотит и не мобилизует, если ее носители живут где-то далеко за рубежом и замыслы свои никак не обнаруживают, если постоянно не напоминают о себе тем, что вредят, шпионят, плетут сети заговоров. В 1920-м почти все реальные враги были изгнаны, а додуматься до мысли, что их можно выводить искусственным путем, ни главный идеолог военного коммунизма Троцкий, ни кто-либо другой не сумели. Пройдет каких-нибудь десять лет, и Сталин восполнит этот пробел концепции, добавит недостающее ей звено, создаст гигантский агрегат для массового производства врагов и будет включать его не только для перемалывания возможных и невозможных соперников, но и для подпитки бдительности и сплоченности, для стимулирования трудового порыва.
Не прекращается
и классовый
(Читатель, разумеется, знает, что использованные в этой статье стихотворные строки взяты из произведения В. Маяковского. Но возможно, не все помнят, что произведение это написано в 1929 году, который известен как год великого перелома).
Сегодня спорят: можно ли отделить плюсы Административной Системы от ее минусов? Одни говорят, что можно. И вписывают в графу «плюс» Магнитку и энтузиазм, а в графу «минус» - репрессии и прочие «ошибки». Другие возражают: даже вопрос так ставить нельзя, потому что никакого деления на «хорошее» и «плохое» по отношению к сталинскому правлению не может быть вообще, все «хорошее» - не благодаря системе, а вопреки ей.
Я не могу согласиться ни с первыми, ни со вторыми. Сказать, что энтузиазм вырабатывался помимо Административной Системы и совершенно независимо от нее, я бы не рискнул. Но Административная Система - это система военного коммунизма. А военный коммунизм - это система, которая вырабатывает энтузиазм и героизм лишь в той мере, в какой они служат (или кажется, что служат) достижению победы над явным или мнимым врагом. Но раз так, то можно ли безоговорочно считать их плюсом?
Однако и это еще не все. Если мы хотим оставить военный коммунизм в прошлом, если хотим преодолеть его и заменить новой, экономической организацией жизни, то лучше поскорее признать: безнадежно устарели не только методы, вызывающие и подстегивающие энтузиазм, но и сам военно-коммунистический энтузиазм. Он неэффективен, нерентабелен, он прикован исторической цепью к слову «больше» и отделен исторической пропастью от слова «лучше», он растворяет «я» в «мы», творчество подменяет репродукцией, тиражированием достигнутых кем-то и где-то количественных (не качественных) образцов, именуемых распространением передового опыта. Грустно? Да, грустно. Но такая уж у человечества судьба: грустить, расставаясь с прошлым, а не оставаться в нем, чтобы не грустить. Поэтому оно, человечество, продвигается вперед. Поэтому сохраняет память о том, что было. Неужели и в этом отношении нам надо быть ни на кого не похожими?
Но я, кажется, ушел от вопроса, который сам поставил. Ведь выдуманные враги могут вызвать у меня трудовой порыв только в том случае, если я поверю, что они враги невыдуманные. Поэтому снова и снова: почему людей удалось обмануть? И снова и снова: потому и только потому, что они готовы были обмануться.
Не все. Но тех, кто был готов, оказалось достаточно. И, как это ни покажется странным, подготовил их нэп: при военном коммунизме первого издания их не было, вернее, они еще не определились, не осознали до конца, кто они и чего хотят. Война и продразверстка всех выровняли: зажиточного и бедняка, трудолюбивого и лодыря, квалифицированного и мало что умеющего. Нэп восстановил различия. Это не могло нравиться ни городским рабочим, с неудовольствием посматривавшим на недоступные им частные рестораны, ни деревенской бедноте, которая землю получила, но к экономическим методам хозяйствования приспособиться не могла и попадала в зависимость от своих энергичных и удачливых соседей. Говоря иначе, именно при нэпе в городе и деревне образовались большие группы людей, которые могли чувствовать себя обделенными революцией и в ком усиливалась поэтому неприязнь к тем, кого нэп экономически поднимал вверх. Так что слово «враг» не надо было выдумывать, оно витало в воздухе, у многих было уже на языке, его оставалось лишь произнести вслух.
И оно было произнесено. В высших эшелонах политической власти не могло не найтись людей, которые не поняли бы рано или поздно, какое это удобное слово. Ведь если кто-то внизу чем-то недоволен, если он склонен винить во всем не себя и не власть, а соседа, то почему бы не пойти ему навстречу? Это же так просто: все, что хорошо, добыто режимом, все, что плохо, - «происки врагов».
Так утверждалась, пробивала себе дорогу в жизнь, питаясь и усиливаясь идущими из нее импульсами, сталинская логика, в которой у него не было предшественников. Она была близка и понятна многочисленному слою людей на верхних и средних этажах системы, выдвинувшихся благодаря своим заслугам в гражданской войне и убежденных, что раз Перекоп можно было взять штурмом, то все прочие проблемы уж во всяком случае не сложней, а не решаться они могут лишь из-за наличия «контры». Но самое главное - она, логика эта, находила живой отклик в еще более многочисленных группах рабочего класса, и прежде всего среди его новобранцев, устремившихся в индустриализирующийся город из нэповской деревни, к которой они не могли приспособиться, где были обречены на жалкое и зависимое существование. На них был огромный спрос, они быстро заполняли заводы и стройки и очень скоро стали задавать там тон. С ними считались, на них оглядывались все политические лидеры 20-х годов. Но ставку на них сделал только Сталин.
Он их не идеализировал подобно Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, которые подтягивали их настроение к своим романтически-книжным представлениям о рабочем классе. Но он и не заблуждался подобно Бухарину насчет возможности приспособить их к нэпу, к рыночной экономике. Он оказался выдающимся эксплуататором их иллюзий и предрассудков, их исторического самообмана.
Это были люди, выброшенные из одной культуры, не принятые ни в какую другую и не создавшие никакой новой. Они готовы были всем пожертвовать, все отдать, они могли работать столько, сколько надо, и намного больше, если им говорили, что они-то и есть настоящие хозяева страны, что им, а не кому-то принадлежит власть и что наградой за их труд будет такая жизнь, какой ни у кого и никогда не было. Они могли слиться с «общим делом», раствориться в нем, могли забыть о себе, мечтая о «городе-саде», но сегодня, отдавая должное их подвижничеству и цельности, мы все же должны признать: им легко было отдавать все, что имели, так как они не имели почти ничего. Не было личного быта, его заменяли казенные койки в бараках, общежитиях, вагончиках, не было ни вещей, ни знаний, ни развитых индивидуальных потребностей, не было ни прошлого, которое они презирали, ни настоящего, которое ощущали чем-то временным, походным, подготовительным к чему-то, что и есть самое главное. Они могли жить только будущим, только мечтой о том счастливом состоянии, которое выражалось словом «социализм», и потому торопили, подстегивали своих лидеров: быстрее, дальше, вперед! И недоброжелательно косились на тех, у кого было что-то свое, кто чем-то дорожил, будь то достаток или собственное мнение, кто выделялся из ряда, кто пробовал жить и работать для себя, а не только для «всеобщего счастья» и «освобождения человечества». Они называли это мещанством, несознательностью, но были готовы к тому, чтобы несознательных занести в списки врагов. Нетрудно догадаться, что совместить нэп с социализмом для этих людей означало примерно то же, что совместить будущее с прошлым.
Поэтому отмена нэпа их не смутила и не огорчила - обрадовала. Стало хуже, но другим («врагам») - хуже вдвойне, а значит, стало ближе к равенству. Они были готовы к великому походу и большому скачку. Они готовы были штурмовать историю. Им удалось построить города, заводы и электростанции. Но они обманулись насчет своих сил и возможностей. Поэтому они нуждались в обмане насчет своих успехов. И им шли навстречу. Им говорили, что невыполненные планы перевыполняются, что весь мир смотрит на них с восхищением и надеждой и вот-вот начнет брать с них пример. Он смотрел, но пример брать не спешил. Они ждали и верили - пока не устали. Но даже устав, продолжали верить в своего вождя, главного врага их врагов, заменившего им культурные традиции, которые они обрубили, и сознание своей личности, которое не успели обрести. Он заменил им все, чего у них не было, и подарил ощущение, что они могут все. Поэтому многие из них верят в него до сих пор и думают, что будь он жив, все давно было бы хорошо. Поэтому правда об Административной Системе кажется им ложью, а разговоры о ее демократизации - подрывающими все, чему поклонялись, за что бились, не щадя себя и других, что создавали, жертвуя всем и не требуя наград.
Они слышали тогда только себя и потому демократию понимали как право быть услышанными и не слышать никого вокруг, или, что то же самое, как право громить тех, кто подрывает единство, под которым они подразумевали единство с ними и ни с кем другим. Читателя, которому эти строки напомнят что-то знакомое, спешу поддержать: память его не подвела, все это мы с ним уже наблюдали на верхних этажах, в коридорах власти, стены которых, конечно же, не были звуконепроницаемыми. И голоса с улицы улавливались в них очень хорошо.
Да, настроения этого слоя зримо или незримо присутствовали в идеологических и политических столкновениях 20-х годов. И Сталин учитывал их лучше, чем его соперники. Я говорил, что его поддерживали партийные низы, так как он всегда имел большинство наверху, какую бы платформу ни отстаивал. Но все же и большинство он получал не только благодаря интригам и политической изворотливости. Нет, его интриги и маневры только потому и удавались, что он никогда не воспарял слишком высоко над рядовым той поры, не пытался возвыситься над его «социалистической» прямолинейностью и наивностью.
Даже тогда, когда он вместе с Бухариным выступал за углубление нэпа, за развитие экономических отношений в деревне и установление рыночных связей между нею и городом, а Зиновьев и Каменев попытались стать рупором антинэповских настроений в рабочей среде, - даже в этом случае Сталин точнее учел именно эти настроения. Он понимал, что рядового рабочего волнует не нэп, а то, чем он кончится, сменится ли социализм, который, разумеется, не нэп. И Сталин сохраняет мечту: свет в конце туннеля не должен погаснуть. А своих критиков представляет как ее убийц.
Он знает, что теоретическая совесть Зиновьева, как и Троцкого, не может примириться с идеей «социализма в одной стране», да еще не самой передовой. Зиновьев, правда, от Троцкого отмежевался, так как понимал: раз власть в руках у социалистической партии, то она (партия) должна оправдывать свое название, должна видеть и указывать народу перспективу, которая зависит от него самого, а не от троцкистской «мировой революции», которая неизвестно когда произойдет. Но соперник Сталина - лидер Коминтерна и единственный, кто после смерти Ленина открыто претендовал на первую роль, - опасался, наверное, что его могут отлучить от марксистской традиции. И он предлагает компромисс: так как власть у нас, будем строить социализм, но будем и отдавать себе отчет в том, что в одиночку его построить не сможем. Этого было достаточно, чтобы представить Зиновьева убийцей идеала. Строительство социализма, которое не ведет к построению социализма! Строительство на авось! Строительство без перспективы! Строить, зная, что не построишь! Сталин вел не теоретический, а идеологический спор; нажимая на самую чувствительную клавишу в сознании рядового партийца, выставлял своего соперника один на один с ожиданиями масс, и тот был ими смят, и все, что он говорил потом об опасности углубления нэпа, уже почти не имело значения: всколыхнуло верхний рабочий слой, но вниз не пошло, в глубину не проникло.
Думаю, что и с Бухариным Сталина сближала не приверженность нэпу (на него в середине 20-х годов всерьез никто не покушался и свертывать не призывал), а мысль о «социализме в одной стране». Они победили, потому что мысль эта была близка большинству рабочих. Но Бухарин был легко, почти без борьбы отодвинут в сторону, когда жизнь вплотную подвела к вопросу, каким этот социализм может и должен быть. Сталин победил, потому что военно-коммунистическая идеология была доступнее и ближе миллионам новобранцев индустриализации, чем идеология рынка и товарно-денежных отношений.
Победа Сталина означала, что военно-коммунистические настроения стали официальной директивой и директивой, предписывающей определенный способ мыслить, чувствовать, существовать. Самообман новобранцев заводов и строек был провозглашен идеологической нормой, высшим проявлением сознательности, его триумф был вписан в политические документы и учебники как триумф «социалистической культурной революции».
Началась жизнь, в которой ни у кого нет и не должно быть настоящего: оно приносится в жертву будущему. Это значит, что слово «жить» по смыслу сблизилось, почти слилось со словом «пережить» (трудности, лишения, войну, ее последствия, войну холодную - всего и не припомнишь). И только теперь мы, похоже, начинаем понимать, какой это был самообман, какая это опасная болезнь - тем более опасная, что до сих пор вспоминается многими как состояние ушедшего душевного здоровья: «Жили тяжело, но хорошо. И была вера, что будет еще лучше».
Ведь если все, что со мной сегодня происходит, лишено самостоятельного нравственного значения, если все это лишь средство достичь великой цели, то в настоящем становятся определенными не только бытовые неудобства, но и предательства родных и друзей, и преступления, и всеобщий страх, и подозрительность (тоже всеобщая), считающая себя бдительностью, и ложь, и слезы детишек, виноватых лишь в том, что их родители чем-то кому-то не угодили. Ведь все это еще как бы не совсем жизнь, а только подготовка к ней, настоящая же жизнь впереди, в будущем прекрасном царстве, все забудется, все спишется, все простится.
Как-то по телевизору рассказывали об обезболивании гипнозом. Человек ложится на операционный стол, и врач-гипнотизер ему внушает: «Ты ничего не будешь чувствовать, ты только будешь слышать мой голос». И - ничего не чувствует. Его режут, а он не чувствует. Самообман сталинской эпохи - как нравственное обезболивание идеологическим гипнозом и самогипнозом. Оперировали топорами утратившую чувствительность народную душу и изрубили ее до того, что до сих пор все в ней кровоточит и не срастается. И - не больно. Или уже начинает болеть?
Это было время всеобщего, тотального временщичества, ощущающего себя посланцем вечности. Всё - как на войне. Казенные койки не только в казармах-общежитиях, но и казенная мебель офицеров и генералов, о чем хорошо рассказал А. Бек в «Новом назначении». Ничего своего. Ни у кого. Все временно. Никто не живет, но почти все верят, что жизнь впереди. И потому всем кажется, что живут.
Самая, быть может, горькая и трудная истина, которую нам предстоит уяснить: там, где нет настоящего, где оно лишено нравственного смысла, - там нет (и не может быть) «светлого будущего». Там, где роют котлованы и возводят заводские корпуса не ради людей, не ради того, чтобы им вот сейчас жилось лучше и свободнее, а во имя каких-то далеких целей, - там построенное рано или поздно придется перестраивать.
Вдумайтесь, это же очень просто: если мы лишили себя настоящего, если вы в нем не живете, а «переживаете» его, то что принесете вы в будущее? Только то, что имеете. И ничего больше. Если вы все, что есть в вас своего, индивидуального, неповторимого, успевшего и не успевшего выявиться, родившегося и еще нет, - если вы все это утопили в океане «общего дела», то как вы вернете утопленное, какой сетью выловите, когда «общее дело» восторжествует? И не придется ли заказывать на торжество траурный оркестр?
Ну а кого не убеждают опыт и логика, вспомните художественное прозрение Андрея Платонова: землекопы роют котлован и мечтают о чем-то смутно-красивом, что придает смысл их работе, а вокруг все совсем не красиво, и они оберегают как ничто на свете девочку-сироту и видят в ней символ всеобщей чистоты и невинности, но девочка умирает, и самый сильный среди землекопов, чугунным кулаком отправляющий в небытие каждого, в ком можно заподозрить врага, погребает ее в «гробовое ложе», выдолбленное в «вечном камне», чтобы удержать ускользающий смысл, сохранить будущее. Но она ведь уже убита кошмаром настоящего, она - труп, и ничто и никогда не оживит ее.
Жизнь без настоящего - это жизнь в духовной пустыне. Это превращение идеала в абстракцию, в миф. Это духовное существование, которое, считая себя выше религиозного, на самом деле значительно ниже его, и их внешнее сходство не должно вводить в заблуждение. Религия хотя и выносит смысл человеческого бытия на его границы, но все же сохраняет его (смысл) и в настоящем, ей ведомо, что такое грех, стыд и вина, и даже индульгенция (отпущение грехов за деньги) при всем своем лицемерии не идет ни в какое сравнение со сталинским «во имя будущего». Что ни говори, а индульгенция, позволяя грешить, все же не убивает способность воспринимать грех как грех, а сталинщина допускает и оправдывает все.
Сегодня нам предстоит нелегкое возвращение в цивилизацию. Но, чтобы вернуться, нужно понять не только то, что нас обманули, но и то, что мы обманулись. Обманулись те миллионы людей «внизу», которые поверили, что можно прыгнуть в будущее, убив настоящее. Обманулись те интеллигенты «наверху», кто, прислушиваясь к их голосам, поверил, что ради будущего можно вернуться в прошлое, ради высшей культуры нырнуть в бездну «внекультурья». Читайте, перечитывайте стенограмму XV съезда, попробуйте вникнуть в те непреклонные требования отречься от самих себя, постарайтесь понять, почему так безбоязненно шли на это интеллигентные, европейски образованные политики, а если вникнете и поймете, то это и станет, быть может, началом нашего с вами исторического самосознания и самоопределения.
Излечиться от самообмана - значит стать другими. Значит - в нашем случае - отказаться не только от военно-коммунистического насилия, но и от военно-коммунистических иллюзий, от военно-коммунистического воодушевления, от военно-коммунистической слепой веры. Вы спросите: что же теперь - остаться без идеалов вообще? Жить сегодняшним днем и только им? Я полагаю, что нет, отказываться от идеалов не надо, и чуть позже поясню, что имею в виду. Но это уже будет разговор не о болезни, а о методах лечения и о том, в чем заключается здоровье? Не о том, что изменять и реформировать, а о том, как и во имя чего это делать.
Но, к сожалению, очень часто мы предлагаем ответы на вопросы «как?» и «во имя чего?», не ответив на вопрос «что?». А он-то, мне кажется, самый главный. Потому что, не выяснив своего места в мире, не разобравшись толком, кто мы и откуда, чем похожи на других и чем отличаемся, трудно определить и направление движения, и его цель, и потребные для этого средства. А мы пока не выяснили. Больше того: отрекаясь от одних иллюзий и самообманов на свой счет, мы порой тут же придумываем новые.
Новый мир. 1989. № 2//
Цит. по: История отечественной журналистики… 2009. С. 83-112
Увы, некогда хрестоматийно известную переписку Энгельса с Каутским знает лишь поколение "рождённых в СССР" . Любопытно, что кратчайшее (парадоксально, непонятое, но верное воспринятое) содержание этой марксистской святыни в известном шедевре Михаила Булгакова изложено, что называется, шершавым языком одного из главных героев. Вот она, эта блистательно описанная сцена русского гражданского междоусобия:
"В театр я не пойду, - неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот…
- Почему, собственно, вам не нравится театр?
Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы...
- Контрреволюция одна!
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головой.
- Вы бы почитали что-нибудь, - предложил он, - а то, знаете ли...
- Я уж и так читаю, читаю... - ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
- Зина! - тревожно закричал Филипп Филиппович. - Убирай, детка, водку, больше не нужна! Что же вы читаете?
- Эту... как её... переписку Энгельса с этим... как его, дьявола... с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: - Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?
Шариков пожал плечами.
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков" .
Чтобы некоторые представители революционно-демократического авангарда "креативного" класса - большей частью столичные бездельники, ксенофобы и маргиналы (в провинции этих "врагов Отечества" , слава Богу, мало) - поспешно не кривили презрительно губы по поводу ментального ничтожества соотечественников (какие-то полулюди с "Уралвагонзавода" ), приведу цитату из продвинутого профессионального революционера, можно сказать, гуру мировой Революции. Ни кто-нибудь иной, сам Лев Давидович Троцкий пишет в одной своей книжонке: "Когда в апреле 1889 года Каутский пишет Энгельсу из Вены, во время стачки: "Мои мысли больше на улице, чем за письменным столом", то эта фраза, даже под пером молодого Каутского, кажется неожиданной и почти фальшивой. Его операционным полем оставался всю жизнь письменный стол. Уличные события он воспринимал как помеху. Популяризатор доктрины, истолкователь прошлого, защитник метода - да; но не человек действия, не революционер, не наследник духа Маркса и Энгельса. Переписка не только полностью вскрывает коренное различие двух фигур, но и обнаруживает совершенно неожиданно, по крайней мере, для позднейшего поколения, тот антагонизм, который существовал между Энгельсом и Каутским". Умри, лучше не скажешь! Учитесь, московские хомячки, идеалисты и нонконформисты - слушатели подрывной, как её бы прямо назвали в прежние, советские времена, радиостанции! Вот как надо мужественно бороться на улицах во имя революционной истины с проклятым режимом, безжалостно душащим свободу, и его подлыми сатрапами! А вы, озлобленные и непримиримые, в сущности, убогие, возомнившие о себе, в мрачном шествии толпитесь в виду ненавистных кремлевских башен с портретами "павшего вождя" (глупо, из-за бабы застреленного плейбоя, так любившего жизнь и славу), не способны кровь (свою, свою, не чужую людскую кровь!) пролить за дело майдана!
Что нам сегодня до этого антагонизма прославленных прирождённых борцов, профессиональных революционеров? Да, как сетовал ещё один всем известный литературный персонаж, забывать стали героев Революции! Кому они сегодня интересны?! Как это кому? Демократической аудитории самого свободного СМИ во всей России (конечно же, это - "Эхо Москвы").
Слабонервных просим удалиться! Постоянных активных (если не сказать, буйных) посетителей сайта упомянутого СМИ - одного единственного на всю Россию светоча свободы слова убедительно прошу не читать, спорить с вами бесполезно, здоровья разом лишишься. То, что я сейчас буду описывать и интерпретировать, быть может, покажется интересным некоторым из остальных моих соотечественников (как и я, безнадёжных "ватников" , то есть, по мнению подлинных негодяев, "негодяев" , осмеливающихся Родину любить). Кто не знает ни Каутского, ни Явлинского (неужто есть такие счастливцы?!), по крайней мере, будет знать теперь, кто эти загадочные люди - "пятая колонна" , каковы их нравы, чего они стоят на самом деле.
Вот несгибаемый "борец с режимом" Лев Шлоссберг, член федерального политического комитета несокрушимой твердыни либерализма, нерушимой и неподкупной партии истинных радетелей демократии "Яблоко" пишет принципиальное во всех отношениях письмо, явно рассчитанное на внимание благодарной публики. Обращено оно к потенциальному соратнику по борьбе и отчасти оппоненту в политических воззрениях на перспективы "России без Путина" Александру Плющеву, опубликовавшему на сайте всё того же "Эха Москвы" реплику с "недобрыми словами" в адрес образцовых революционеров. Как и полагается классическому высококультурному полемисту, он для начала скромно сообщает о себе: "я не в обиде, участь политика - терпеть" . Какой слог! Прямо-таки Цицерон! Чтение книг выдает в нём приличного человека (если мы не ошибаемся в нём, так ли?!). Перечисляя славные имена в прославленной когорте нынешних российских профессиональных революционеров, он приходит к удивительному для законов жанра политического ораторского искусства силлогизму. Почти как у литературного классика: "и я здесь был!" (у классика имелась в виду счастливая Аркадия, мифическая мирная страна любителей искусств и всего изящного, а вовсе не торжище политической борьбы). Да-да, и он причислен к обитателям политического Олимпа! Есть кабинетные умы, по мере сил работающие на Революцию, а есть истинные борцы, всего себя отдающие борьбе. Он - уличный боец, он вожак масс, а не кабинетный сиделец.
Поговаривают, что на недавнем съезде партии именно он беззастенчиво претендовал на немыслимую роль нового вождя (партийного руководителя, в бюрократическом смысле, отнюдь не духовного отца - отец один: имя ему Явлинский). "Когда Политкомитет "Яблока" поручил мне вести переговоры с демократическими силами в связи с выборами депутатов Государственной Думы России, я пригласил к переговорам моих политических друзей. Наши оценки политической ситуации в стране и приоритетных политических задач совпали. Переговоры, которые по существу подготовила сама жизнь, прошли быстро и успешно". Всё бы хорошо, но картину испортили конкуренты, добивающиеся не меньшей революционно-политической славы и не меньшего признания тёмных масс. Поскольку речь шла о деньгах (деньги, всё деньги - германского ли генштаба, еврейского ли финансового лобби Америки, ох, не зря в народе революционеров подозревают в предательстве отечества, которое в опасности!) на дело Революции, то алчные соратники поругались.
Чтобы приглушить скандал, вмешался главный нынешний распорядитель средств, щедро выделяемых на дело революционной борьбы: имя ему Ходорковский. Этот несчастный изгнанник из Отечества, вынужденный политический эмигрант и кукловод (скорее всего, сам кукла в руках истинных кукловодов), безо всякого сомнения приличный человек, читающий классиков, ответил ретивому искателю славы, да как ответил! Цицерон, нет, куда Цицерону! Герцен, нет, куда Герцену! Сам товарищ Плеханов не сказал бы лучше! "Я понимаю ревность со стороны части заслуженных оппозиционеров к политической молодёжи и желание сохранить над ней контроль, но мы же сами настаиваем на регулярной и честной сменяемости власти…" . Короче, посоветовал кандидату в великие революционеры современной эпохи угомониться до поры до времени.
Невольно возникает ощущение дежавю. Как тут не вспомнить финальную реплику Шарикова: "Да не согласен я! С обоими" . Чуден мир политики!