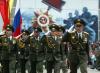Основные события этой повести описывает краткое содержание. "Ночевала тучка золотая" - произведение, с которым, безусловно, стоит познакомиться в оригинале. В нем поднимаются важные проблемы, актуальные и сегодня. Вы убедитесь в этом, прочитав краткое содержание.
"Ночевала тучка золотая" начинается следующим образом. Автор рассказывает, что из детдома предполагалось отправить двух ребят постарше на Кавказ. Однако они вдруг исчезли. А вот двойняшки Колька и Сашка Кузьмины (Кузьменыши по-детдомовскому) согласились поехать. Дело в том, что рухнул подкоп под хлеборезку, сделанный ими за неделю до этого. Ребята мечтали поесть досыта хоть раз в жизни, но не вышло. Военных саперов вызвали осмотреть этот подкоп. Они сказали, что без подготовки и техники нельзя прорыть его, к тому же детям. Однако на всякий случай лучше было исчезнуть из этого разоренного войной Подмосковья.
Прибытие на Кавказские Воды

Кавказские Воды - название станции, куда они прибыли. Оно было написано на прибитой к телеграфному столбу фанерке углем. Именно на Кавказских водах продолжается действие произведения, которое создал Анатолий Приставкин ("Ночевала тучка золотая"). Краткое содержание знакомит читателя лишь в общих чертах с этим местом. Здание вокзала во время боев, проходивших здесь недавно, сгорело. За многочасовой путь, проделанный ребятами от станции до станицы, в которой находились беспризорники, ни одного подвода, ни машины, ни путника не попалось. Кругом было пусто... Дозревали поля. Кто-то вспахивал их, засевал, пропалывал. Кто же эти люди? Почему так глухо и пустынно на столь красивой земле?
Ребята навещают Регину Петровну, а затем отправляются в интернат
Прибывшие на место ребята отправились в гости к Регине Петровне - воспитательнице, с которой они познакомились в дороге и которая очень им понравилась. Затем они направились в станицу. Оказалось, что люди в ней все-таки живут, но скрытно: они не выходят на улицу, не сидят на завалинке. Не зажигают в хатах ночью огней. В интернате новость: Петр Анисимович, директор, договорился о работе на консервном заводе. Туда и записала Кузьменышей Регина Петровна, хотя посылали, вообще-то, только старших, учеников пятых-седьмых классов.
Неожиданная встреча
Регина Петровна также показала ребятам старинный чеченский ремешок и папаху, найденные в подсобке. Она отдала ремешок и отправила спать Кузьменышей, сама же села шить ребятам зимние шапки из папахи. И Регина Петровна из произведения "Ночевала тучка золотая", краткое содержание по главам которого мы описываем, не заметила, как бесшумно откинулась створка окна, а затем показалось в нем черное дуло.
Пожар и работа на консервном заводе

Ночью случился пожар. Регину Петровну утром увезли куда-то. А Сашка Кольке показал гильзу и множество следов конских копыт. Вера, веселая шоферица, стала возить ребят на консервный завод. Там было хорошо: трудились переселенцы, ничего не охраняли. Ребята тут же набрали яблок, слив, груш, помидоров. "Блаженную" икру дает тетя Зина (баклажанную, но название ее Сашка забыл). А однажды тетя Нина призналась, что местные жители боятся чеченцев, которых отправили в Сибирь. Возможно, некоторым из них удалось сбежать, и они запрятались в горах.
Отношения с переселенцами колонистов
Очень натянутыми стали отношения с переселенцами, что отмечает Приставкин ("Ночевала тучка золотая"). Краткое содержание продолжается тем, что колонисты, вечно голодные, начали красть картошку с огородов, затем колхозники поймали на бахче одного колониста. Петр Анисимов задумал провести концерт самодеятельности для колхоза. Последним номером показал фокусы Митек. Вдруг рядом зацокали копыта, послышались гортанные выкрики и ржание лошади. Затем грохнуло, и воцарилась тишина. Донесся крик с улицы: "Взорвали машину! Дом горит! Там Вера наша!"
Нападение на колонию
Наутро выяснилось, что Регина Петровна вернулась. Она предложила ребятам отправиться вместе на подсобное хозяйство. Ребята занялись делом. Они ходили по очереди к родничку, гоняли на луг стадо, мололи кукурузу. Затем приехал Демьян, одноногий мужчина, и Регине Петровне удалось его упросить подбросить до колонии Кузьменышей, чтобы получить продукты. Ребята уснули на телеге. Проснувшись в сумерках, они сначала не могли понять, где они находятся. Почему-то Демьян сидел на земле, у него было бледное лицо. Заметив их, он сказал им не шуметь. Оказалось, что колония разорена. Кузьменыши прошли на ее территорию. Двор колонии был завален барахлом, выбиты окна, сорваны с петель двери. Людей нет. Тихо и страшно.
Смерть Сашки
Ребята рванули назад к Демьяну. Они шли, обходя просветы, через кукурузу. Демьян был впереди, и вдруг он пропал, прыгнув внезапно куда-то в сторону. Сашка помчался за ним, лишь дареный поясок сверкнул. Колька, мучимый поносом, присел. И вот сбоку, над кукурузой, показалась лошадиная морда. Мальчик упал на землю. Он увидел, приоткрыв глаза, копыто прямо у своего лица. Лошадь вдруг отпрянула в сторону. Колька бежал, затем упал в яму, после чего провалился в беспамятство.
Настало мирное голубое утро. Колька направился в деревню для того, чтобы найти Сашку с Демьяном. Он увидел, что брат его стоит, прислонясь к забору, в конце улицы. Колька побежал к нему. Однако на ходу его шаг стал замедляться сам собой: что-то очень необычно стоял Сашка. Мальчик замер, подойдя вплотную.
Оказалось, что брат его висел, а не стоял, нацепленный на острия забора под мышками. Из живота у мальчика выпирал пучок кукурузы. В рот был засунут еще один початок. По штанам ниже живота свисала Сашкина требуха. Позже выяснилось, что на нем нет серебряного ремешка.
Алхузур и Колька

Колька через несколько часов притащил тележку. Он отвез на станцию тело брата и отправил его с составам: Сашка мечтал поехать к горам. Как вы уже, вероятно, догадываетесь, приближается к финалу произведение "Ночевала тучка золотая". Краткое содержание заключительных событий следующее.
На Кольку много позже набрел свернувший с дороги солдатик. Мальчик спал в обнимку с другим мальчиком, чеченцем по виду. Лишь Алхузур и Колька знали, как они скитались между горами, в которых чеченцы легко могли убить русского мальчишку, и долиной, в которой уже чеченцу угрожала опасность, и как они спасали от смерти друг друга. Дети не позволяли разлучать себя и назывались братьями - Колей и Сашей Кузьмиными.
Ребят перевели из детской клиники Грозного в детприемник. Здесь держали беспризорных детей перед тем, как отправить их в разные детдома и колонии.

Этими событиями заканчивается краткое содержание. "Ночевала тучка золотая" входит сегодня в список литературы, рекомендованный школьникам России для внеклассного чтения. Тем не менее ознакомиться с повестью было бы полезно не только ребятам школьного возраста. Для широкого круга читателей предназначено произведение "Ночевала тучка золотая". Краткое содержание этой повести было описано лишь в общих чертах, и, обратившись к оригиналу, вы узнаете подробности событий.
Анатолий Игнатьевич Приставкин
Ночевала тучка золотая
Посвящаю эту повесть всем ее друзьям, кто принял как свое личное это бесприютное дитя литературы и не дал ее автору впасть в отчаяние
Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: «Кавказ! Кавказ!» Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.
Да и что за странная фантазия в грязненьком Подмосковье говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи-Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.
Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.
Да вот еще папиросы! Один из Кузьмёнышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрявшего на станции в Томилине.
На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: «КАЗБЕК».
Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.
Искал корочку хлебную, оставшуюся от раненых, чтобы подобрать, а увидел: «КАЗБЕК»!
Ну, а при чем тут Кавказ? Слух о нем?
Вовсе ни при чем.
И непонятно, как родилось это остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно было родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желания и мечты, корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.
Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ, – вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!
А назначали туда, как Господь Бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самых удачливых, а можно определить и так: счастливейших на земле!
В их число Кузьмёныши не входили.
И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.
Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные, – хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновеньице, – вот о чем мечталось! Глазком чтобы наяву поглядеть на все превеликое богатство мира в виде нагроможденных на столе корявых буханок.
И – вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманящий хлебный запах…
И все. Все!
Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть насладятся избранные! Это по праву принадлежит им!
Но, как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той фантасмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых, – запах через железо не проникал.
Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.
И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любым путем… Любым.
В эти особенно тоскливые месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба, ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже зарешеченным окном ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, ссыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахану.
Слюна накипала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завыть, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно… Накажут, изобьют, убьют… Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе… Как он пахнет!
Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует… И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.
От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильней.
Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей: если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!
С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.
В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.
За корочку попадали в рабство на месяц, на два.
Передняя корочка, та, что поджаристей, черней, толще, слаще, стоила двух месяцев, на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя – побледней, победней, потоньше – месяца рабства.
А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьмёнышей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.
Кузьмёныши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.
Если бы, конечно, сложить двух Кузьменышей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.
Но знали Кузьмёныши и так свое преимущество.
В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрей. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить где что плохо лежит!
Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тяпнули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлеборезки! Говорили же: чего, мол, хлеборезку раззявил, если у тебя у самого потянули!
А уж комбинаций всяких из двух Кузьмёнышей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый – шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата, как вьюны, верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.
Глаза увидят, руки захапают, ноги унесут…
Но ведь где-то, в каком-то котелке все это должно заранее свариться… Без надежного плана: как, где и что стырить, – трудно прожить!
Две головы Кузьмёнышей варили по-разному.
Сашка, как человек миросозерцательный, спокойный, тихий, извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.
Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход. А что еще точней: взять жратье.
Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: «Нет». Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил: «А зачем? Можно спереть и поближе…»
Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.
Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!
А Кузьмёныши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.
Когда революцию в Питере делали, небось – кроме почты и телеграфа да вокзала – и хлеборезку не забыли приступом взять!
Шли мимо хлеборезки братья, не первый раз кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.
«Ох, как жрать-то охота… Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» – так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если… Если ее… Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!
Копать! Ну конечно, копать!
Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал, и, вертанув головой, все оценил, и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.
Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче если он детдомовец, отрастивший за войну мозги на том, где и что достать.
Не молвив ни словца (кругом живоглоты разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились прямиком к ближайшему сарайчику, отстоящему от детдома метров на сто, а от хлеборезки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлеборезки как раз за спиной.
В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась заначка Васьки Сморчка. В бытность, когда здесь хранились дрова, никто не знал, лишь Кузьмёныши знали: тут прятался солдат, дядя Андрей, у которого оружие стянули.
Сашка спросил шепотом:
– А не далеко?
– А откуда ближе? – в свою очередь спросил Колька.
Оба понимали, что ближе неоткуда.
Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлеборезки, не одним Кузьмёнышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!
Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь – ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.
Окошко же после того неудачного случая зарешетили, да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять – автогеном если только!
И насчет автогена Колька соображал, он карбид приметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.
Только под землей чужих глаз нет!
Другой же вариант – совсем отказаться от хлеборезки – Кузьмёнышей никак не устраивал.
Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роем в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.
В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьет, не спит, ему дня хватает. Не сторож – собака на сене.
В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.
Был у Кузьмёнышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили.
Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантрапа, пока не отлетела ручка да и все остальное не рассыпалось по частям.
Не о машинке речь. О хлеборезке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб – он один заставлял яростно в две головы работать братьев.
И выходило: «В наше время все дороги ведут к хлеборезке».
Крепость, не хлеборезка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлеборезок, которые бы не мог взять голодный детдомовец.
В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, впитывая доли градусов и вроде бы согреваясь – известь была вытерта до кирпича, – Кузьмёныши приступили к реализации своего невероятного плана. В этой невероятности и таился залог успеха.
От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.
Вцепившись в лом (вот они – четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.
На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка. Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьмёныши землю подальше в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую, школьную, приспособить.
В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день – Сашка.
Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же – второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что оба были хотя бы наполовину. Ну а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!
А вот обед там или ужин, тот по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать и вдвоем в столовку как на приступ шли.
Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шамает или Колька. Тут они едины: Кузьмёныши. Если вдруг один, то вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!
Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.
А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадется.
Раскоп был в самом разгаре, когда вовсю пошли эти странные слухи о Кавказе.
Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильней повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.
Воспитателей отправят, и дурака повара, и усатую музыкантшу, и директора-инвалида… («Инвалида умственного труда!» – произносилось негромко.)
Всех отвезут, словом.
Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.
Кузьмёныши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленно, неистово долбили они свои шурфы.
Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!
Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне, и лови, как воду решетом!
А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут… В пустыню превратят! В Сахару!
Так думали Кузьмёныши и шли долбить.
Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой – в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.
Однажды сидели Кузьмёныши в дальнем конце раскопа.
Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На руках пузыри вздулись. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.
В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.
Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.
Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем – Сашка догадался, – и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копоти.
Оба Кузьмёныша сидели отвалившись, потные, чумазые, коленки подогнуты под подбородок.
Сашка спросил вдруг:
– Ну, что Кавказ? Трепятся?
– Трепятся, – отвечал Колька.
– Погонят, да? – Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: – А тебе не хотелось бы? Поехать?
– Куда? – спросил брат.
– На Кавказ!
– А чего там?
– Не знаю… Интересно.
– Мне интересно вот куда попасть! – И Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлеборезка.
На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить – и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай – да в рот.
Никогда в жизни не приходилось еще Кузьмёнышам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикасаться не приходилось.
Но видеть видели, издалека конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.
Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенские, детские, и, взглянув мельком – такой опытный глаз-ватерпас у нее – на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала «чик-чик» по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, мильон этих талончиков с цифирьками 100, 200, 250 граммов.
На каждый талон, и два, и три – только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то – высохла, а не потолстела!
Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.
Целая – такое богатство, что и подумать страшно!
Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!
Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.
Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота, от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: «Хлеб, хлеб…»
В такие минуты братья не роют, не дураки небось. Направляясь мимо железных дверей в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!
Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.
Вот строили в древние времена, небось и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словцом приложит.
Как доберутся Кузьмёныши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.
Тогда… Знали братья твердо, что случится тогда.
В две головы продумано небось, не в одну.
Бухарик – но один – они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не моги. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.
А три бухарика – это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день.
Часть для дурака повара: о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлеборезчики и те шакалы, которые около хлеборезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.
Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают… Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.
Кузьмёныши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обидят, других обделят. Только и всего.
Кому надо-то, чтобы комиссии от роно поперли (а их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы, и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.
Но Сашка только вздохнул, посмотрел в сторону, куда указывал Колькин кулак.
– Не-е… – произнес он задумчиво. – Все одно интересно. Горы интересно посмотреть. Они небось выше нашего дома торчат? А?
– Ну и что? – опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.
Оба помолчали.
– Сегодня стишки учили, – вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. – Михаил Лермонтов, «Утес» называется.
Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»… Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!
А из «Утеса» всего две строчки Сашка запомнил:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана…
– Про Кавказ, что ли? – скучно поинтересовался Колька.
Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьмёнышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая небось тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.
Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьмёныши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.
Документы переписали. Никто не поинтересовался – отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: «Эти! – И после паузы: – На Кавказ!»
Причина же отъезда была основательная, слава богу, о ней никто не догадывался.
За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлеборезку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьмёнышей на другую, лучшую жизнь.
Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть.
А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, пялят глаза – что за чудо, земля осела под стеной хлеборезки!
И – догадались, мама родная. Да ведь это же подкоп!
Под их кухню, под их хлеборезку подкоп!
Такого еще в детдоме не знали.
Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.
Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?
Те осмотрели подкоп, от сарая до хлеборезки прошли и внутрь, там, где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели: «Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом да вспомогательными средствами… А дети… Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели».
– Они у меня еще те чудотворцы! – сказал хмуро директор. – Но я этого кудесника-творца разыщу!
Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.
Оба Кузьмёныша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время, не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?
Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.
И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.
Дохленькая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче – и два места освободилось.
Конечно, Кузьмёнышам не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.
А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться, да и вроде благое дело для ребятишек сделать.
И для Кавказа, само собой.
Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться – поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревают.
Сашка тогда сказал брату: «Хочу фруктов… Вот тех, о которых этот… который приезжал, говорил».
На что Колька отвечал, что фрукт – это и есть картошка, он точно знает. А еще фрукт – это директор. Своими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: «Тоже фрукт… От войны за детишками спасается!»
– Картошки наедимся! – сказал Сашка.
А Колька тут же ответил, что когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон читал в книжке, что саранча куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она небось все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем…
Но ехать Колька все-таки согласился.
Два месяца тянули, пока отправили.
Ночевала тучка золотая Анатолий Приставкин
(Пока оценок нет)
 Название: Ночевала тучка золотая
Название: Ночевала тучка золотая
Автор: Анатолий Приставкин
Год: 1987
Жанр: Русская классика, Советская литература, Литература 20 века
О книге «Ночевала тучка золотая» Анатолий Приставкин
Более сильной, тяжелой, мучительной темы, чем дети-сироты на войне, пожалуй, не найти. Об этом невозможно молчать, и нет сил кричать, особенно, если ты – участник событий, о которых рассказываешь. Честно говоря, не завидую я Анатолию Приставкину. «Ночевала тучка золотая» – апогей увиденного, пережитого и выстраданного самим автором в детстве. Эта великолепное, но невероятно тяжелое произведение входит в . Рекомендую и вам прочесть «Ночевала тучка золотая».
Скачать книгу можно внизу страницы в формате epub, rtf, fb2, txt.
Главные герои книги – братья-сироты Кузьмины (в детдоме их зовут Кузьменышами). Собственно, от их лица и ведется повествование. Мир, в котором они живут, невероятно жестокий. Соответственными становятся и детские мысли: братья никому, кроме как друг другу, не доверяют; дерутся, обманывают и воруют. Мечтая о том, чтобы когда-либо вдохнуть запах свежевыпеченного хлеба…
Кольку и Сашку постоянно мучает голод, и все их мысли направлены только на то, чтобы добыть еду. Ради своей цели они не брезгуют никакими методами. Тем не менее, они не вызывают отвращения у читателя, скорее наоборот, заставляют сочувствать и понимать. Виновны ли они, что родились в такое время? Виновны ли, что остались без родителей, в холоде и голоде послевоенного времени? Нет. Но виновники всё же есть.
И только взрослых можно винить во всем этом. Развязав войну, вышестоящие даже и не подумали позаботиться о миллионах невинных судеб. Ну а нижестоящие тут же принялись воровать у совсем нищих, задыхаясь собственной жадностью. И только дети, пытаясь выжить, кажутся благородными на фоне всех других.
Дети учат милосердию и терпению, любви и уважению к ближнему. Для них не важна национальность – чеченец и русский вполне могут стать лучшими друзьями. Впрочем, ребята впускают в свой мир и взрослых – но только если они докажут, что достойны того.
Анатолий Приставкин сам побывал в детдоме, в этом поезде, почувствовал голод, одиночество и непередаваемую горечь утраты. Мне очень, очень жаль, что он прошел через такие испытания. Но я не могу не поблагодарить его за то, что он поделился своим опытом с читателями, хотя бы для того, чтобы мы узнали об этом…
Как это – быть голодным, спасаться побегом, увидеть смерть единственного родного человека?.. Господи, дай нам никогда не узнать этого. Книгу Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» просто необходимо прочесть всем людям в мире! Чтобы события, описанные в ней, никогда больше не повторились.
На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно или читать онлайн книгу «Ночевала тучка золотая» Анатолий Приставкин в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.
Цитаты из книги «Ночевала тучка золотая» Анатолий Приставкин
«Я думаю, что все люди - братья», - скажет Сашка, и они поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата.
Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди.
Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опаснее, тем обычно красивее.
Нам было страшно не оттого, что мы могли погибнуть. Так бывает жутко загнанному зверьку, которого настигло неведомое механическое чудовище, не выпуская из коридора света! Мы как маленькие зверята, шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары…
… и только поезд стучал колёсами, что-то подтверждая: «Да, да, да, да, да, да…»
Никогда и никому он не открыл бы тайну заначки. Это всё равно, что себя отдать. Но Алхузур теперь был Сашкой…
Этого стерпеть он не смог. Заорал, завыл, закричал и, уже ни о чём не помня, как на самого ненавистного врага, бросился на эту ворону…
Может быть, от ужасной догадки, что не ждёт нас на новом месте никакое счастье… Мы просто хотели жить…
Возможно ли извлечь из себя, сидя в удобной московской квартире, то ощущение беспросветного ужаса, который был тем сильней, чем больше нас было! Он умножился будто на страх каждого из нас, мы были вместе, но страх-то был у каждого свой, личный! Берущий за горло!
Скачать бесплатно книгу «Ночевала тучка золотая» Анатолий Приставкин
(Фрагмент)
В формате fb2 : Скачать
В формате rtf : Скачать
В формате epub : Скачать
В формате txt :
Галина Ребель . Повесть Анатолия Приставкина . «Ночевала тучка золотая»
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_2_41
Примерные вопросы для самостоятельного
предварительного анализа повести А. Приставкина
«Ночевала тучка золотая»:
1. Где и когда разворачивается действие повести? Как изменяются на протяжении повествования пространственно-временные координаты и что при этом остается неизменным?
2. От чьего лица ведется рассказ? Как способ организации повествования формирует координаты художественного мира произведения?
3. Как поданы в начале повести главные герои произведения:
Кто они?
Что знают о самих себе, о своем прошлом?
Чем и как живут?
Что дает Кузьменышам их неразрывная братская слитность?
Что заставило их отправиться на Кавказ?
4. Какое слово с самого начала повести становится ключевым и в судьбе главных ее героев, и в сюжете произведения?
5. Какие эмоционально-психологические состояния, чувства героев последовательно запечатлены на страницах повести? Как бы вы описали, а может быть, и изобразили «эмоциональную кривую» произведения?
6. Чем объясняется многолюдство повести? Что общего в судьбах большинства героев? Охарактеризуйте социальную среду обитания Кузьменышей на разных этапах их жизни: что за люди их окружают? какие отношения складываются у них с этими людьми?
7. Что такое Кавказ в контексте повести и в контексте личных и национальных судеб, представленных в произведении? (Обратите внимание на многочисленные литературные реминисценции, формирующие этот образ.)
8. Кто, почему и за что распинает Сашку? Как переживает это Колька? Что означает для него гибель брата?
9. Зачем Приставкин на место погибшего Сашки «подставляет» чеченца Алхузура? Какой эпизод повести предваряет и предсказывает такое сюжетное решение?
10. Как обозначены в повести источники зла, причины трагедии?
11. Какую роль играют в повести многочисленные цитаты, аллюзии, реминисценции? К каким текстам отсылает читателя автор? Как вообще в этой книге осмысляется миссия слова, его значение в жизни людей?
12. Объясните название произведения.
Урок (точнее, уроки – минимум два, лучше четыре) можно начать с представления автора, с краткого рассказа о его жизни, творчестве и общественной деятельности. (Соответствующую справку коллеги найдут в приложении к этой публикации.)
Затем (или, наоборот, до представления автора) следует, как мне кажется, обменяться общими впечатлениями о прочитанном – в том «непричесанном», естественном их виде, в каком они сложились в сознании ребят, чтобы у последующего углубления в текст был адекватный самому тексту сильный эмоциональный зачин.
Основное же содержание разговора – анализ повести, который ориентирован на раскрытие поставленных заранее вопросов, на осмысление связанных с ними нравственных, исторических и политических проблем, на приобщение к таинствам художества, способного облечь в неотразимо впечатляющее слово даже такой сложный и страшный, как в данном случае, жизненный материал.
БРАТЬЯ
Ключевые слова повести появляются уже в посвящении, где сама эта книга обозначена как «беспризорное дитя литературы» , долго не находившее журнального пристанища.
Перешагнув за пределы своего первоначального контекста, формула «беспризорное дитя» определяет общественный статус, образ жизни и судьбу главных героев повести – Кузьменышей. Правда, в центре повествования оказывается не одно дитя, а нераздельное органическое единство двоих – братьев Кольки и Сашки Кузьминых (не потому ли Кузьменышей, что вызывает рифмо-ассоциацию – детенышей?).
Принципиальная значимость братства как формы и способа человеческого существования получает сюжетное подтверждение: когда один из братьев-близнецов погибает, второй выживает только благодаря тому, что рядом с ним появляется новый, такой же неразлучный и преданный брат.
И все-таки почему не просто дитя, а – братья? Почему безысходно трагическому одиночеству, запечатленному в формуле «беспризорное дитя», Приставкин предпочел неразрывное единство, обозначенное пронизывающим повесть от начала и до конца словом «братья»?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует пристально вглядеться в героев и проследовать за ними по маршруту их судьбы.
Братья Кузьмины являют собой поначалу некое единое неделимое целое, изнемогающее от одного и того же мучительного чувства – голода, одержимое желанием увидеть, «как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе», ведомое неодолимым искушением хотя бы почувствовать, как этот вожделенный хлеб пахнет (7).
Они отважно держат оборону против холодного и враждебного окружающего мира, в полной мере используя свое преимущество: «В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрей. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить, где что плохо лежит» (8). Эту спасительную сторону тандема позднее мгновенно улавливает и заместивший погибшего Сашку Алхузур: «Одын брат – дыва хлаз, а дыва брат – четыры хлаз!» (228).
Свое единство Кузьменыши подтверждают практической неразлучностью: «вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся» (12). И даже когда они на уроки по очереди ходили, чтобы не прерывать «земляные работы» – подкоп под хлеборезку, «получалось, что оба были хотя бы наполовину» (12). Каждый из них осознает себя всего лишь «половинкой», да и для окружающих они нерасторжимое целое. «Их разделить нельзя, они нерасчленимые, есть такое понятие в арифметике… Это про них как раз!» – так, в третьем лице, тем самым подчеркивая объективность факта, рассуждает Колька о себе с братом в тот драматический момент, когда Сашка вдруг заявляет о готовности «по своей воле» расстаться с ним из-за Регины Петровны. Объяснить это, с точки зрения Кольки, можно только одним: «Сашка свихнулся» (191). Ибо вообще-то жили и выживали братья тем, что сами же сформулировали в ответ на вопрос воспитательницы: «А по отдельности вас как? – Мы по отдельности не бываем» (137), где «не бываем» равнозначно «не существуем».
Гибель Сашки становится для Кольки катастрофой, так как это не просто гибель близкого, дорогого, единственного в мире жизненно необходимого существа – это собственная, заживо переживаемая гибель.
Вот он везет сквозь ночь мертвого Сашку: «Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили порознь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя» (204).
Не мыслящий себя вне братского единства, спасающий себя лишь как часть целого, как половинку, на очередной вопрос: «А ты кто же будешь? Ты Колька или Сашка?» – только что навеки простившийся с братом Колька отвечает: «Я – обои!» (208).
Когда же одиночество сомкнулось вокруг него железным кольцом, когда он не только умом, но и всем своим измученным естеством осознал, что нет ни Сашки, ни Регины Петровны с «мужичками», жизнь потеряла для него смысл: для себя, только для себя, сил у него не было. И, свернувшись клубочком на грязном полу заброшенной, опустошенной колонии, он лег умирать.
Жизнь вернется к нему только тогда, когда сквозь мертвящее забытье он вдруг вновь почувствует рядом с собой брата. Именно почувствует, физически ощутит братское участие, братское тепло. Вновь обретенный Сашка толкал ему в лицо железной кружкой и, почему-то «ломая свой язык», уговаривал: «Хи…Хи…Пит, а то умырат сопсем», потом «накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой». Правда, у этого Сашки было какое-то «странное чернявое, широкоскулое» лицо и, выплыв из забытья, Колька вдруг сознает, что «никакой это не Сашка, а чужой пацан», с «чужим голосом» и чужими словами.
« – Саск нет. Ест Алхузур. Мына так зыват…»
Но Кольке нужен Сашка: « – Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет…» (216)
Так хотелось ему сказать и думалось, что сказал, а выходило лишь мычание. И опять – забытье. А сквозь сон – «виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормит его по одной ягодке виноградом» и сует в рот разжеванные кусочки ореха. И это опять рождало ощущение присутствия брата. Точно так же они с Сашкой не раз спасали друг друга. На своем страшном пути к станции с телом мертвого брата Колька вспоминает, как Сашка, случайно найдя под телегой одну-единственную ягодку, принес ее ему, больному, тайком залез под кровать в изоляторе и шептал: «Колька, я принес тебе ягоду смороды, ты выздоравливай, ладно?» (205) Вспоминает и то, как уже он, в свою очередь, спал под санитарным вагоном, где погибал от дизентерии объевшийся с голодухи грязных зеленых овощей Сашка. Время от времени перестукиваясь, они словно сигнализировали друг другу: Я есть. Ты есть. Мы есть.
Так и выживали. Так выжил Колька и теперь. Выжил благодаря тому, что чужой, чернявый, плохо говорящий по-русски Алхузур не столько понял, сколько почувствовал, угадал, что спасение не только в тепле, еде и питье, но и в утолении самой главной – душевной – потребности: « – Я, я Саск… Хоти и даэк зыви… Буду Саск».
И только после этого «дело пошло на поправку» (216).
Своим братством Колька и Алхузур защищаются и от русских солдат («Так это Сашка лежит! Брат мой…» /219/ – выпалил первое, что пришло на ум, Колька молоденькому голубоглазому бойцу, осматривающему в поисках чеченцев колонию); и от чеченских мстителей («Не убей! Он мынэ от быэц спысат… Он мынэ брат называт…»/230/ – отчаянно молит грозного сородича Алхузур); и даже от беспощадной государственной системы в лице лысого («ушлого»!) военного: «Он мой родной брат», – упрямо повторяет на допросе Колька. И в ответ на неопровержимый, с точки зрения следователя, аргумент: «Он же черный! А ты светлый! Какие же вы братья?» – с достоинством и ничуть не кривя душой отвечает: «Настоящие» (239).
И такова сила их убежденности, что перед лицом этого более высокого, чем кровное, родовое, братства отступает, оставляя разноликих Кузьменышей друг другу, не только индивидуальная злая воля, но и смертоносный государственный механизм.
Примечательно, что сами братья Кузьмины, будучи внешне не различимыми для окружающих близнецами и неразлучными товарищами по судьбе, никак не связывали свое нерасторжимое единство с понятием семьи. Попытка квалифицировать их совместное выступление на концерте как «семейный дуэт» вызывает у них внутреннее сопротивление и очевидное недовольство: «семейными ни за что ни про что обозвали!» (137) У них не только сейчас, в их развернутом на страницах повести беспризорном настоящем, нет «на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой» (24), но словно никогда и не было и быть не могло. Ни в разговорах, ни в мечтах, ни в воспоминаниях – ни разу, ни прямо, ни косвенно не возникают образы отца, матери, семейного дома. Они даже не примеряют к себе эти понятия, не совмещают, не связывают их с собой.
Лишь однажды в повести возникает разговор о маме. Затевают его скучающие по уехавшей в больницу Регине Петровне ее «мужички». «Без мамы плохо», – жалуется Марат. «Конечно, плохо», – подтверждает Колька, то ли только для малышей, то ли и для себя признавая эту истину. Но в ответ на высказанную «мужичками» уверенность в том, что не только их собственная, но и «все мамы приедут», Кузьменыши, явно не желая развивать эту тему, «заторопились» назад, в колонию (128). Другой пример: на вопрос тетки Зины – «А родители твои игде?» – «Сашка пожал плечами, отвернулся. Он на такие вопросы не отвечал» (111). И даже когда любимая Кузьменышами Регина Петровна предлагает им жить одной семьей, «про семью братья не поняли. Они этого понять не могли. Да и само слово семья было чем-то чужеродным, враждебным для их жизни» (157). Даже на краю гибели, в ужасе и отчаянии, даже умирая, погружаясь в забытье, Колька будет звать не маму, а Сашку.
Но самым пронзительным, страшным свидетельством бессемейности, беспризорности братьев является то, что они не только не знают дня своего рождения, но даже не понимают, что это значит. «Почему день? А если мы ночью родились? Или утром?» (169) – простодушно изумляются Кузьменыши вопросу воспитательницы.
Такую же беспризорность, бессемейность, неприкаянность несет в себе и Алхузур. Правда, у него, в отличие от не ведающих своих истоков Сашки и Кольки, есть корни, есть родная земля, есть род, каждый из мужчин которого для него «дада» – «отэц». Но единственной реальной, жизненно необходимой родней – братом, без которого не выжить и незачем жить, – становится для него Колька.
И о «вторых» Кузьменышах можно сказать точно так же, как о «первых»: «Друг у друга они есть – вот это будет верно. Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша – это они сами» (24).
Союз Кольки и Алхузура высвечивает, обнажает то, что в союзе Кольки и Сашки тоже было сущностным, главным: родство душ в единстве судьбы при совершенной разности характеров, при абсолютной личностной уникальности. Это только для равнодушных окружающих «Кузьмины – это все равно, что один человек в двух лицах», так что даже характеристику им выдали одну на двоих, поскольку для посторонних глаз «не только внешность, но и привычки, и наклонности», и все у них одинаковое. Но это для тех, для кого «все дети на одно лицо» (66). А для читателя, которому герои показаны не извне (примечательно, что портретной характеристики нет вообще), а изнутри, братья, неразрывно связанные единой судьбой, взаимной преданностью и удвоенным инстинктом выживания, по сути своей совершенно разные. Они не повторяют, а дополняют друг друга.
Созерцательный, спокойный Сашка – генератор идей. Оборотистый, хваткий Колька – практик, воплощающий эти идеи в жизнь. Именно благодаря такому гармоническому взаимодополнению и берутся они за реализацию дерзких операций под общим девизом «взять жратье»: затевают подкоп под хлеборезку, осуществляют победную акцию «экспроприации» на воронежском рынке, обеспечивают себя сладкой заначкой на консервном заводе. Каждое из этих с юмором и состраданием описанных мероприятий – пример плодотворности взаимодействия точного замысла (идеи) и блестящей организации (воплощения) и одновременно свидетельство жизнестойкости и прочности братского союза Кузьменышей.
Свою разность прекрасно сознают, хотя и скрывают от посторонних глаз, сами братья. «Сашка вон ест быстрее, у него терпежу мало. У меня побольше. Зато он умнее, мозгой шевелит. А я – деловитый» (66), – в знак особого доверия приоткрывает Колька секрет тандема Регине Петровне.
Разность проявляется уже в мелочах: «Если бы кто-то мог знать привычки братьев [примечательная оговорка – никто не знал! – Г.Р.], он и по свисту бы их различил. Колька свистел только в два пальца, а выходило у него переливчато, замысловато. Сашка же свистел в две руки, в четыре пальца, сильно, сильней Кольки, аж в ушах звенело, но как бы на одной ноте» (200).
По-разному и каждый в отдельности, особо, влюбляются они в Регину Петровну. «Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них.
Да и нравилось Кузьменышам в женщине разное. Сашке нравились волосы, нравился ее голос, особенно когда она смеялась. Кольке же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то Шахерезады, которую он видел в книжке восточных сказок» (39).
Едва ли не в любой ситуации созерцатель Сашка сохраняет философскую дистанцию, вúдение сути и понимание перспективы, в то время как деятельный, активный, но недальновидный Колька погружается в событие с головой. Так, в охотничьем азарте заготовки запасов повидла Колька совершенно забывает о вечно подстерегающей опасности зарваться и нарваться на беду. Поэтому когда Сашка «задарма» уступает шакалам Волшебную калошу – «золотую, родненькую, славную Глашу» (131), с помощью которой банки с повидлом благополучно сплавлялись с территории завода на пустырь, а оттуда – в тайник, Колька расстроился до слез, потом «рассвирепел», полагая, что брат не иначе как «сбрендил», добровольно отказываясь от надежной кормилицы. Сашка же, изобретший этот остроумный способ самообеспечения, не только не утрачивает чувство опасности, но, что поразительно, не теряет чувство меры и представление нравственного предела, который нельзя переступать: «В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться…» (133).
Еще более явственно разница между братьями обнаруживается в том, как ощущают и объясняют они одно из самых сильных и постоянных своих переживаний – страх. Колька сосредоточен на внешнем и в принципе устранимом его источнике – прячущихся в горах бандитах. Сашкины ощущения сложней и трагичней – это экзистенциальный страх покинутости, заброшенности, одиночества человека во враждебном ему мире:
« – Я не их боялся…», – пытается объяснить он кивающему на «этих», которых все даже называть опасаются, Кольке.
« – Я всего боялся. И взрывов, и огня, и кукурузы… Даже тебя.
– Меня?
– Ага.
– Меня?! – еще раз переспросил, удивляясь, Колька.
– Да нет, не тебя, а всех… И тебя. Вообще боялся. Мне показалось, что я остался сам по себе. Понимаешь?
Колька не понял и промолчал» (152 – 153).
Этот разговор, как и само возникшее вдруг между «половинками» непонимание, – один из характерных для книги Приставкина, но не сразу замечаемых за напряженностью сюжета и социальной остротой повествования прорывов в экзистенциальную область, к онтологическим, метафизическим проблемам человеческого бытия.
По-разному видят братья и личный выход из кавказского тупика. Они даже поспорили о том, бежать ли немедленно, или ждать Регину Петровну. И Колька, для которого «Сашка умней, это ясно», «неохотно согласился» подождать (158). Но и относительно дальнейшего маршрута возникают у них разногласия: «Колька тянул назад в Подмосковье, Сашка звал вперед, туда, где горы» (156).
В разные стороны и направит их беспощадная судьба.
Страшной смертью погибает Сашка, зверски растерзанный за тот серебряный ремешок, который отдал ему перед катастрофой Колька, даже не подозревавший, что передает эстафету смерти. «Горький» Сашка – так прозвали его в поезде, который вез их с Колькой на Кавказ… В поезде же он и отправится, уже окончательно и бесповоротно один, в смертную даль.
А «сладкий» Колька, пережив смерть своей «половинки», а тем самым и собственную смерть, возвращается к жизни усилиями нового брата и вместе с ним, опять-таки в поезде, уезжает в неведомую, засекреченную (?!), но, может быть, все-таки дающую шанс выжить чужую сторону.
И этот шанс на выживание сохраняется, по логике повести, вопреки беспощадному могущественному давлению извне и благодаря неистребимости, спасительности, целительности человеческого братства. Братство в книге Приставкина по существу выступает синонимом человечности.
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Социально-бытовые обстоятельства жизни героев повести можно определить одним словом: страшные.
Детдомовцы, колонисты, беспризорные – таков их общественный, официальный статус. В переводе на обиходный, в том числе их собственный язык – «урки», «шакалы», «шпана», «блатяги», «дикая орда»…
Надпись на бывшем «Силькозтекнюкоме», куда их вывезли из «подмосковной шараповки», гласит: «Для переселенцев из Мос. обл. 500 ч. Беспризорные». Чьей-то недоброй волей заброшенные в чужую враждебную сторону «для какого-то невероятного эксперимента», они и сами не могут понять, кто же теперь они есть и что означает в этом зловещем «500 ч. Беспризорные» буква «ч»: «чечмеков, чумаков, чудиков? А может быть, чужаков?» (61).
Даже сиротами мальчиков никто не называет, и, пожалуй, сами они себя таковыми не чувствуют, ибо сиротство – это некое положение относительно родителей, это присутствие, пусть со знаком минус, родителей в судьбе ребенка. Здесь же – абсолютная пустота в самόм первоистоке человеческого бытия: не просто беспризорность, бессемейность – безродность.
Неизбывной горечи и боли исполнено авторское отступление на эту тему: «А может, это все сказки, что безродные – колонисты да детдомовцы – рождаются? Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме? Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то щели появились! Копошатся, жучки эдакие, и по рожам немытым видно, по движениям особенным хватательным: ба! Да это наш брат беспризорный на белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от него и моль, и мор, чесотка всякая…. И так в стране продуктов не хватает, а преступность растет и растет. Пора его, родного, персидским порошком, да перетрумом, да керосинчиком, как таракашек, морить! А тех, кто попрожорливее, раз – и на Кавказ, да еще дустом или клопомором рельсы за поездом посыпать, чтобы памяти не осталось. Вот, глядишь, и не стало. И всем спокойно. Так на совести гладко. Из ничего вышли, в ничего ушли. Какое уж там рождение! Господи!» (170).
Вся система отношений и обстоятельств, в которую погружены Кузьменыши, направлена на то, чтобы вытравить из них сознание осмысленности и ценности своего существования, низвести его на уровень физического прозябания, а в конце концов обратить в не-существование – так, чтобы памяти о них не осталось: «из ничего вышли, в ничего ушли» (170).
Человеческое окружение Кузьменышей многолико, многоголосо, многолюдно – это вся Россия, поднятая на дыбы, взбаламученная, пущенная по миру, но не только войной с внешним врагом, которая «всех перевернула и выкинула из привычного» (93), но – и это еще страшней! – не ведающей пресыщения, беспощадной, истребительной войной власти с собственным народом. Главным методом этой войны было тотальное выкорчевывание – всех и отовсюду, так чтоб ни дома, ни социальной ниши, ни профессиональной, ни национальной почвы под ногами – никакой почвы чтоб не было, чтоб не люди, а «тучки», «песчинки», «перекати-поле», покорные швыряющей их из стороны в сторону воле, безропотно влачились по «пустыне» необъятного отечества. Об этом страшно и неопровержимо свидетельствуют судьбы самих Кузьменышей, воспитательницы Регины Петровны, жены погибшего летчика, которая после гибели мужа оказалась со своими детьми никому не нужна; проводника Ильи Зверка, в тридцатом лишившегося раскулаченных родителей, а в начале войны повторившего их путь в товарняке в далекую Сибирь (83) и с тех пор скитавшегося непрерывно; тетки Зины и ее земляков из Курской области, которых «тоже привезли» (113) в кавказский «рай» за то, что в оккупации не погибли, а жили и выжили; одноногого возчика Демьяна, в «шашнадцать» выселенного «за лошадь» (190), а теперь, после войны, «без надежды» поселившегося в чужом, богатом, но враждебном к пришельцам краю. «Дом-то где? Где? Нету…» (93). И быть не должно. Поэтому и на «энтих… черных», которых большая война пощадила, такую силу бойцов нагнали, «будто /…/ окружение под Сталинградом делали», и – всех скопом, живых и мертвых, малых и больших, прочь «вывозили»… (190) «Привезли», «вывозили»… Неопределенно-личная, обезличивающая, уничтожающая, убийственная сила – что может противопоставить ей одинокая (и даже прижавшаяся к другой такой же одинокой, теплой, уязвимой) человеческая личность?..
В этой беспощадной мясорубке люди не живут – выживают, часто ценой утраты, забвения, предательства собственной человечности. Равнодушие друг к другу, нравственная глухота и слепота даны в повести не просто как проявление личностной коррозии отдельных человеческих особей, а как результат воздействия целенаправленной государственной политики вытравливания нравственной вменяемости. Все тот же вездесущий Колька становится неожиданным и невольным недоумевающим свидетелем трагедии ссыльных чеченских ребятишек – тех, кого «вывезли» в одной из первых партий, еще до прибытия Кузьменышей на Кавказ. Запертые в зарешеченных вагонах, они вопили, кричали, плакали, протягивали сквозь решетки руки, о чем-то молили, но никто, кроме Кольки, «как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивая молоточком по колесам, и шакалы суетились у поезда, и люди на станции двигались спокойно по делам, а радио доносило бравурный марш духового оркестра: «Широка страна моя родная…» (46). Растерянный, желающий, но бессильный помочь, не понимающий, о чем просят, Колька, разумеется, не догадывается, что это роковая встреча, что черноглазые иноязычные пленники – его собратья по судьбе, что один из таких, как они, спасет ему жизнь, станет настоящим братом и не понятая тогда отчаянная детская мольба – «Хи! Хи!» – эхом отзовется в обращенных к нему призывах новоявленного чернявого «Сашки»: «Хи… Хи… Пит, а то умырат сопсем… Надо пит водды… Хи… Пынымаш, хи…» (215). Может быть, потому и будет ему протянута эта спасительная кружка с водой, что тогда, при встрече в пути, он единственный посочувствовал и хотел помочь. Не мог, но хотел…
Коллективная нравственная глухота, продиктованная страхом, звериным инстинктом самосохранения, в свою очередь, становится почвой для безоглядной жестокости и ненависти к тем, на кого руководящая рука указывает как на врагов: «Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойники, так и остались головорезами! Они другого языка не понимают, мать их так…. Всех, всех к стенке! Не зазря товарищ Сталин смел их на хрен под зад! Весь Кавказ надо очищать! Изменники Родины! Гитлеру прод-да-ли-сь!» (147). Этому крику ярости солдата, раненного в перестрелке с сопротивляющимися переселению чеченцами, вторит в повести уже из другого, нашего, времени ветеран карательных акций – из числа тех, «кто от Его имени волю его творили»: «Всех, всех их надо к стенке! Не добили мы их тогда, вот теперь и хлебаем» (225).
Когда писалась и публиковалась повесть, кавказский котел был прочно закрыт крышкой еще той, сталинской, выделки и запечатленные Приставкиным реваншистские настроения («Они верят, что не все у них позади…» /226/) казались не более чем бессильной старческой, на грани маразма, злобой. А когда давление на крышку сверху ослабло и давлением изнутри ее сорвало, события полувековой давности стали кровавой и страшной сегодняшней действительностью…
Но вернемся к Кузьменышам. Большинство людей, с которыми жизнь сталкивает братьев, равнодушны к ним, а то и потенциально или открыто опасны для них.
Символична в этом плане уже первая сцена, где один из Кузьменышей – Колька – сосуществует рядом с усатым подполковником с пачкой «Казбека» в руках, абсолютно не замечающим вожделенно глазеющего на коробку папирос оборвыша. Так же не замечают братьев и многие другие люди, по долгу службы обязанные интересоваться ими и даже заботиться о них. «Никто не поинтересовался, отчего они вдруг решили ехать, какая нужда гонит наших братьев в дальний край» (17). Никто не догадывался об истинной причине их отъезда на Кавказ, никто не провожал их на вокзал, никто не побеспокоился о том, чтобы они не умерли с голоду по дороге: «Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба вам давать!» (19).
Воплощением убийственного (в буквальном смысле) равнодушия предстает директор томилинского детдома Владимир Николаевич Башмаков, который, как пишет, солидаризируясь с героями, автор, «и владел нашими судьбами, и морил нас голодом» (27). Этот «наполеончик» с коротенькими ручками и властным характером, к несчастью, не был исключением. Он принадлежал к преступному множеству тех «жирных крыс тыловых, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны…» (27).
Сами «детишки» тоже были разные, и отношения между ними складывались отнюдь не благостные. Мучительная и постоянная борьба за выживание оборачивалась вынужденной борьбой каждого против всех, кто мог лишить жизненно необходимой пайки. Закон детдомовской жизни был жесток: «Сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства…» (8).
И тем не менее в этом бушующем море ненависти есть островки добра и теплоты. Прежде всего – это сами Кузьменыши, которым их братский союз помогает в нечеловеческих, жестоких обстоятельствах остаться людьми, не превратиться в «шакалов», в «урок», в «шпану». Именно благодаря тому, что они есть друг у друга, в душе каждого из них не угасает любовь, теплится, вопреки окружающему холоду, доверие, жалость, сострадание – причем не только друг к другу, но и к окружающим, чужим и даже враждебным людям. Едва отъевшись сами, они с сожалением думают о томилинских шакалах, вместе с которыми «за крошечку сахарина продавались в рабство» (129); они искренне жалеют обманувшего их Илью, когда видят его сгоревший дом и думают, что и он погиб; и даже распявшего Сашку чеченца Колька не убить, а только спросить хочет: за что?.. А каким высоким благородством исполнена их любовь к Регине Петровне, для которой они становятся истинными рыцарями, заступниками, защитниками! И, наконец, братское единение Кольки и Алхузура – это символ подлинной, неистребимой человечности.
Да и на пути Кузьменышей один за другим появляются добрые, хорошие, порядочные люди.
Первый, кто, столкнувшись с ними, посмотрел не сквозь них, не поверх голов, а на них и хотя и мельком оглядел братьев, но тут же что-то «пробормотал насчет одежды», то есть заметил, как дурно, неподходяще для дальней, тяжелой дороги они экипированы, был Петр Анисимович Мешков – «Портфельчик», как называли его подопечные. Редкостно честный, глубоко порядочный человек, всю жизнь проведший на хозяйственной работе и ушедший с нее, «ибо тащили вокруг все и вся», а он этого делать не хотел и не умел, «Портфельчик», с присущим ему чувством ответственности, принял под свою опеку «пятьсот головорезов худших из худших» (103). И делал все, что в его силах и сверх этих сил, чтобы помочь им выжить. И, пока сам был жив, ни на минуту не расставался со своим невзрачным портфелем, хранившим детские документы, чтобы в этой стране отчуждения, где, как сказано в другой знаменитой книге, «нет документа, нет и человека», никто не мог усомниться в факте существования этих несчастных «500 ч.».
Человеческой теплотой, сохраненной, вопреки условиям существования, одаривали Кузьменышей тетка Зина (между прочим, единственная из всех людей – еще корову Машку невозможно было ввести в заблуждение – безошибочно различавшая близнецов), шоферица Вера, воспитательница Ольга Христофоровна. Эти люди, по возможности, помогают братьям выжить и нравственно сохраниться, хотя обстоятельства их собственной жизни, казалось бы, должны были лишить их сил и способности к состраданию.
Активно насаждаемой сверху ненависти всех ко всем, особенно к «чужим» («чечмекам»!) противостоит естественное, органичное, нормальное убеждение нормальных людей в том, что иное не значит плохое, что ответственность за зло лежит на конкретных его носителях, а не на народах. Говорится об этом очень просто, естественно, кстати – так что урок понятен даже ребенку, хотя и вызывает у него неизбежные в данной ситуации дополнительные вопросы:
« – Они хорошие евреи, – подтвердил Колька. [Это про грузчиков на консервном заводе, которые, оказывается, тоже евреи, как и те, про которых Регина Петровна говорит, что они Библию написали. – Г.Р.]
– А почему евреи должны быть плохими? – спросила с интересом Регина Петровна. И о чем-то задумалась. Вдруг она сказала: – Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди.
– А чечены? – выпалил Сашка. – Они Веру убили» (165).
Регина Петровна на сей раз ничего не ответила на вопрос о «чеченах», но о чеченском мальчике, который отвел в сторону нацеленное на нее дуло ружья , о пощадивших ее ночных разбойниках забыть не могла. Она понимала и Кузьменышам пыталась объяснить: «Не надо было папаху трогать. /…/ Будто я что-то живое резала» (155). Иными словами: нельзя в чужой, особенный, уникальный мир вторгаться силой и перекраивать его на свой лад.
Социальная модель нормального, человечного сосуществования людей разных национальностей и разных миров представлена в повести в образе детприемника, куда попадают выловленные в горах и едва не одичавшие Колька и Алхузур. Здесь живут веселый и нескладный татарин Муса, справедливый ногаец Балбек, аккуратная и предупредительная немка Лида Гросс, а также армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. Здесь же оказываются и курносый русачок со своим черноглазым, едва говорящим по-русски братом – Кузьменыши.
У представителя официальной власти – человека в штатском, но с военной выправкой и жесткими замашками – состав приютской компании вызывает раздражение и подозрения: «Понабрали тут», – презрительно бросает он собравшимся работникам, – «Надо знать, кого принимаете». От этих слов «взрослые почему-то вздрогнули», но мужественная воспитательница Ольга Христофоровна, несмотря на собственную уязвимость (она немка), с достоинством отвечает: «Мы принимаем детей. Только детей» (242). Среди этих детей есть и слепые. Слепые физически, но зрячие по существу: добрые, умные и чуткие. Обладающие даром видеть добро в ослепленном ненавистью мире. То добро, которое открывается не глазу, а сердцу, которое сводится к очень простым, но замутненным хитросплетениями зла и напором агрессии истинам.
Оголтелому, безумному и самоубийственному призыву «Всех, всех их надо к стенке!» (225) в повести Приставкина противопоставлено детское, простодушное и единственно спасительное желание: «Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?» (206). Это «как в колонии» не может не вызывать горькой усмешки, но что другое мог противопоставить войне на всеобщее уничтожение «общественный» ребенок?..
«Эмоциональная кривая» повествования
Повесть Приставкина потрясает не только своей «фактурой», хотя события и судьбы сами по себе потрясающие. Мощь эмоционального воздействия обусловлена, кроме того, пронизывающей достоверностью, психологической заразительностью воспроизведенных в ней экстремальных душевно-физиологических состояний.
Эмоциональная насыщенность, густота, «температура» повествования предельно высока от начала до самого конца книги, притом что характер и содержание переживаний меняются, психологический рисунок усложняется, обогащается новыми красками. Читательское напряженное внимание-сопереживание усиливается с каждым новым эпизодом – возникает эффект эмоционально-психологической «воронки», обусловленный, с одной стороны, «изобразительной силой таланта» (М. Булгаков), а с другой – субстанциональным, всечеловеческим, внятным не только на сознательном, эстетическом, но и на подкорковом, физиологическом уровне характером описанных переживаний.
Если попытаться вычертить некую условную эмоциональную кривую повести, то выглядеть она будет приблизительно так. Сначала по нарастающей: голод – страх – паника. Затем перепад, переключение в иную, мажорную плоскость: любовь, ревность, грусть, счастье. И опять контрастный, на сей раз катастрофический слом: ужас, отчаяние, гибель. И, наконец, финальные переживания, знаменующие воскресение, возвращение к жизни: боль и надежда.
Уже знакомство с Кузьменышами становится для читателя едва ли не физиологическим приобщением к их судьбе. Переживаемые героями невыносимые муки голода, от которых изнывает, корчится, тоской и жаждой исходит все естество, просто невозможно не ощутить физически или хотя бы примерить к себе: «Слюна накипала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завыть, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли, наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно… Накажут, изобьют, убьют… Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе… Как он пахнет!» (7). Для погруженных в мрак голодного существования детей возможность насыщения, утоления голода – стержневой вопрос бытия: «Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует…» (7). Мучительное желание «взять жратье», казалось бы, единственный движитель их помыслов и поступков. И читателю, которому автор просто не оставляет шансов остаться равнодушным наблюдателем, хочется поначалу только одного: чтобы вожделенный кусок хлеба попал, наконец, в голодные рты. Кульминационным эпизодом «голодных» глав становится захватывающая операция по «экспроприации» батона на станционном вокзале в Воронеже – потрясающая трагикомическая сцена, демонстрирующая, какого артистизма и изобретательности требовало от Кузьменышей утоление элементарной, основополагающей жизненной потребности – потребности в пище.
Между прочим, это один из тех «рискованных» эпизодов повести, которые не поддаются примитивной морализаторской оценке, ибо жизнь здесь показана в своей неразложимой сложности и противоречивости. А между тем нашелся некий «строгий» читатель (к сожалению, из нашего, учительского, числа), который усмотрел в этой блистательной по художественному исполнению, одновременно очень смешной и очень горькой сцене не более не менее как поэтизацию воровства. «Еще не успела выйти полностью повесть, – свидетельствует критик А. Латынина, – а я уже держала в руке письмо педагога, порицавшего автора за то, что, дескать, взял в герои приворовывающих мальчишек». В ответ на это нелепое обвинение А. Латынина задает риторические вопросы: «…Повернется ли язык назвать кражей скудный промысел по базарам двух голодных, оборванных мальчуганов, все мечты которых – вокруг мерзлой картофелины да картофельных очистков?.. И можно ли без сочувствия следить за той поистине героической борьбой за выживание, которую ведут два близнеца, самоотверженно поддерживающие друг друга?» К анализу этого эпизода мы еще обратимся, а возвращаясь к теме настоящей главы, скажем, что, достигнув здесь своего максимального сюжетного напряжения, «голодная» эмоция затухает, вытесняется другими, еще более сильными и тяжелыми переживаниями.
Чуть отъевшиеся в дороге, обласканные Региной Петровной, оправившиеся от Сашкиной тяжелой болезни, Кузьменыши, как и остальные пассажиры «беспризорного» поезда, сразу по прибытии на Кавказ оказываются во власти нового мучительного чувства. Сначала их охватывает смутная неясная тревога, вызванная враждебной пустынностью окружающих мест и таинственными взрывами в горах. Потом тревога перерастает в страх, многократно усиленный непонятностью, таинственностью происходящего. «Как же можно бояться, не зная чего?» – недоумевает прагматик Колька. «Можно. И потом… если все кругом боятся… это даже страшнее», – поясняет экзистенциально более чуткий, чем брат, Сашка (80). А боятся, действительно, все. Обитатели станицы Березовской «скрытно как-то живут, неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на завалинке не сидят. Ночью огней в хатах не зажигают. По улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют» (68). От лица этих странных станичников проводник Илья сознается: «…Мы, жалкие переселенческие сучки, огня не жжем, боимся…. Боимся! Это разве жизнь?» (72). И советует недоумевающим братьям: «Тикали б вы отсюда! Правду говорю! Бегите! Что есть мочи бегите!» (91). О страхе говорит Демьян: «Край-то богатый, можно бы жить… Страх все портит» (94). Страх застывает в глазах Регины Петровны после ночного взрыва в колонии и становится причиной ее болезни. Страх владеет добрейшей теткой Зиной: «Мы так боимси… Так боимси…» (114) – признается она близнецам и, по доброте душевной и бесхитростности, первая поднимает перед ребятами завесу тайны о насильственном переселении чеченцев и об оставшихся в горах мстителях.
Страх достигает своей кульминации и перерастает в панику после взрыва во время концерта в клубе, от которого погибает веселая шоферица Вера: «Был холод в животе и груди, было безумное желание куда-то деться, исчезнуть, уйти, но только со всеми, не одному! И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воет оцепленный флажками волк, то завыли бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума…» (145). А когда ужас чуть отступал, мечущийся в поисках выхода разум нашептывал Кузьменышам, что «в Томилине, в этой грязной помойке, хоть и было им неуютно, но жилось проще, спокойней, чем здесь, среди этих прекрасных гор» (105).
И все-таки именно здесь им довелось пережить не только самые страшные, но и самые светлые, счастливые, по-человечески полноценные минуты жизни – настоящий праздник жизни, которым щедро одарила их сказочно красивая и добрая Регина Петровна. Целую гамму сложных, противоречивых, высоких и светлых чувств испытывают они благодаря ей: и ослепление красотой, и ревность, и смущение, и любовь, и радость, и светлую грусть. «Никогда ничего подобного они не знали и не чувствовали» (185). Подаренный Региной Петровной праздник рождения открыл мальчикам новые ценностные измерения. Всю жизнь озабоченные тем, чтобы успеть насытиться, пока не отняли «пайку», они при виде «волшебного, неправдоподобного стола», который накрыла для них Регина Петровна, «вдруг оробели» и «не знали, как подступиться» (178). Впервые в жизни получив настоящие подарки, они растерялись, не зная, что с этим делать, а с трудом натянув на себя непривычное облачение, не решались выйти из укрытия, где переодевались: «Разве у нормального человека может быть столько на себе добра!» (181). Но главное, что даровала им в этот изумительный день Регина Петровна, – неведомое дотоле умиротворенно-светлое душевное состояние: «было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом» (185).
Тем ужаснее, невыносимее то, что случилось после.
Все произошло непоправимо быстро и неотвратимо страшно: пробуждение, «неживая тишина», опустевшая колония, погоня, Колькино забытье, безмятежное утро, распятый Сашка. Вслед за расслабленностью и умиротворением – предельный накал чувств: опять страх, усиленный непонятностью происходящего и мгновенно перерастающий в панику, самозабвенное инстинктивное желание спрятаться, зарыться в землю, спастись; полная утрата сознания; затем пробуждение, надежды и – ужас, не поддающийся описанию, невыразимый, невыносимый ужас, исходящий из недр потрясенного естества в нечеловеческом крике.
Потом наступает сосредоточение отчаяния, когда оно, загнанное внутрь, становится источником тех сил, которые нужны Кольке, чтобы отдать брату последний долг, чтобы в мысленном разговоре с убийцей Сашки просто и точно обозначить случившееся: «Ты нас с Сашкой убил…» (206), чтобы отправить брата в последнее путешествие, чтобы осознать новый свой человеческий статус: «Я – обои» (208). И только затем дать волю отчаянию, выпустить его наружу – разразиться слезами.
Катастрофа, которой венчается повествование о мытарствах братьев Кузьминых, производит такое ошеломляющее впечатление, что после нее, кажется, ничего сказать уже невозможно, да и не нужно говорить. Большинство писавших о повести критиков полагали, что здесь и следовало поставить финальную точку, чтобы не переводить повествование из реалистического в литературно-романтический план. Но точка в этом месте была бы приговором уже не героям повести, а всем нам. Такой конец текста значил бы конец осмысленного и оправданного человеческого бытия, конец истории, в начале которой был распятый на кресте Сын Человеческий, а в обрушивающем мир в катастрофу финале – распятый и поруганный труп ребенка.
Но эта книга – не приговор, а урок. И венчают ее не смерть, а воскрешение через боль и, вопреки всему, – надежда. Робкая, косноязычная, в символическом косноязычии своем беззащитно уязвимая, и все-таки – надежда: «Зачым плакыт! Нэ надо… Мы будыт ехыт, ехыт, и мы приедыт, да? Мы будыт вместе, да? Всу жист вмэсты, да?» Стук колес набирающего ход поезда, который увозит от нас в неизвестность плачущего Кольку и утешающего его Алхузура, словно подтверждает: «Да-да-да-да-да-да…» (246).
Пространственно-временные координаты и субъектная организация повествования
Действие повести разворачивается в течение года – с зимы 1944 до 1 января 1945 – на огромном неуютном пространстве разоренной, обездоленной, сиротливо бесхозной земли, вдоль и поперек пересеченной бесконечными дорогами, по которым в бесплодных поисках постоянного пристанища скопом и в одиночку мечутся люди. Песенно-поэтическая, романтическая формула той эпохи «Широка страна моя родная…» с подразумеваемым, но не приведенным в повести, спрятанным в многозначительный подтекст финалом строфы «…где так вольно дышит человек» включена Приставкиным в опровергающий, горько-иронический контекст и переплавлена в прозаические, реалистические констатации-свидетельства многочисленных скитальцев по безотрадным отечественным просторам: «Большая Россия, много в ней красивых мест, а бардак, посудить, он везде одинаковый…» (84).
Реальное историческое время – последний военный год – и реальное географическое пространство («грязненькое Подмосковье» – дорога на юг – таинственный и страшный Кавказ) даны в повести через две то существующие параллельно, то пересекающиеся и сливающиеся субъектные призмы: восприятие героя и позицию рассказчика.
Внутриситуативная, обнаженно субъективная, эмоционально и интонационно ярко окрашенная – это «геройная» призма, принадлежащая или обоим Кузьменышам сразу, или одному из них – Кольке. «Здесь и теперь» – вот самоощущение героев, соответственно формирующее хронотоп их существования.
Извне, с расстояния сорока отделяющих от описываемых событий лет, из недр «удобной московской квартиры» (145), вглядывается в героев и события автор-рассказчик. Ему, в отличие от героев, видны причины и следствия, ему ясна историческая перспектива, понятно то, что не могли знать или не умели сформулировать ввергнутые в ужас бытия и обреченные на гибель дети.
Голос и взгляд автора-рассказчика обращены одновременно и в то трагическое прошлое, которому посвящено повествование и в котором он живет судьбой и переживаниями своих героев, и в недоступное героям, неведомое им настоящее, в котором он жадно ищет следы товарищей по судьбе: «Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли…» (25).
Автор-рассказчик не просто ведет повествование – он бередит незажившие раны, заново переживая вместе со своими героями свое собственное прошлое и властно вовлекая в сопереживание, соучастие, сострадание читателя. В самые страшные, напряженные, трагические моменты повествование от третьего лица переходит в рассказ от первого лица, отстраненное «они» незаметно и естественно заменяется на всеобъемлющее «мы» и (или) пронзительно личностное «я».
Вот, например, как это происходит в эпизоде, рассказывающем о пути колонистов через зловещую ночь после взрыва во время концерта.
«Картина была такая. Директор шел впереди, выставив перед собой портфель, как щит.
Походка его была не то чтобы нерешительная, а какая-то неровная, дерганая, будто он разучился ходить. Он, наверное, спиной чувствовал, как его подпирают дети. А им тоже казалось, что вот так, за ним, ближе к нему, они лучше прикрыты и защищены.
Слава богу, что никто из них не мог в это время видеть его лица».
А вот следующая фраза, отделенная от предыдущей пробелом, графически вычленяющим заключительную часть 19 главы, – это уже сугубо личное, индивидуальное переживание: «Да еще эта глухая темнота, особенно беспросветная после яркого пожара!» Так запечатлено эмоциональное слияние рассказчика с героями, а вслед за ним происходит незаметная, не сразу фиксируемая читательским сознанием подмена отстраненно объективного «они» на объемлющее героев и рассказчика «мы»: «Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. /…/ Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать. /…/ Что мы знали, что мы могли понимать в той опасности, которая нам угрожала? Да ничего мы не понимали и не знали!» Здесь не только содержание рассказа, но и сама субъектная организация текста, безошибочно точное, ювелирное переключение регистров, перевод повествования из объективного в субъективный план захватывает, вовлекает, включает читателя в сопереживание, апеллируя к экзистенциальному ядру его личности, в котором сидит, в ожидании своего часа, готовый в любую минуту вырваться наружу, ужас одиночества, заброшенности, страх смерти: «Мы, как маленькие зверята, шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары…»
После этого кульминационного в рамках эпизода фрагмента происходит резкое временнόе смещение, на мгновение на передний план повествования выдвигается пребывавший в тени, дышавший в затылок героям автор-рассказчик, «демиург», сетующий на то, что все, чем он располагает для воспроизведения пережитого, – это всего лишь «слова, написанные через сорок лет после тех осенних событий сорок четвертого года». Но такое признание не только не умаляет, а, напротив, усиливает, подпитывает не угасшей за сорок лет остротой переживания «беспросветный ужас», который той страшной ночью становился «тем сильней, чем больше нас было», и в то же время дробился на «берущий за горло» «страх каждого из нас», личный страх: «Я только запомнил, и эта память кожи – самое реальное, что может быть, – как подгибались от страха ноги, но не могли не идти, не бежать, ибо в этом беге чудилось нам спасение…», – и вновь складывался в общее для всех чувство: «Мы хотели жить животом, грудью, ногами, руками…» (145).
Вдруг всплывшие на поверхность текста «мы» и особенно «я», которые в следующей главке вновь растворяются в третьем лице, создают эффект сопряжения – скрещения времен, скрещения судеб…
Вот другой фрагмент повествования, построенный по тому же принципу. Завершается самый счастливый в жизни Кузьменышей день – первый и единственный праздник рождения. Уже съедены вкуснейшие угощения, примерены восхитительные подарки, рассказаны веселые истории, спеты грустные песни. «Был вечерний закат, и было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом». Так это осознается и переживается изнутри ситуации. Дальше – взгляд извне, из авторского (и предполагаемого читательского: «наши братья») трагического всеведения: «Хотя о счастье наши братья еще не догадывались, они, может быть, поймут это позже. Если поймут. Если будет у них еще время понять!» Вслед за тем – опять-таки горький авторский вздох от лица умудренной опытом разочарований и крушений зрелости: «Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжко думать и загадывать наперед, особенно когда мы уже все, все знаем…» И тут же – «приземление», возвращение внутрь ситуации, но уже не через отстраненно-«геройное», а через личное, от первого лица переданное переживание: «Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда я тогда по-настоящему только и родился?» (185).
Пронзительно личное чувство, окрашивающее повествование от начала до конца, личная причастность автора к тому, что происходит с героями, более того – совпадение героя и автора-рассказчика не только в эмоционально-психологическом, но и жизненном, личностном плане, притом что в момент повествования они отделены друг от друга четырьмя десятилетиями, а возможно, и границей между жизнью и смертью, обусловливает особый, пульсирующий, то расширяющийся, то сужающийся характер художественного пространственно-временного поля.
Расширение обеспечивается за счет недоступного героям «авторского избытка» (М.Бахтин).
Сужение происходит, когда художественной призмой повествования становится взгляд героя-ребенка, участника и оценщика событий. Приставкин не просто показал судьбу ребенка в безумном, жестоком мире, он показал мир глазами ребенка, и эта специфическая – «детская» – призма предопределила особый характер повествования в целом и пространственно-временных его параметров в частности. Как уже говорилось выше, для Кузьменышей все происходит здесь и сейчас. Отрывочные, весьма приблизительные, отчасти мифологические представления Кузьменышей об окружающем мире служат лишь неким условным фоном их предельно конкретных жизненных установок и задач: «Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие! А Кузьменыши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого и не околеть» (9). Точная датировка событий здесь – авторская подсказка читателю, апелляция к его, читательскому, знанию и пониманию того, что 1944 – предпоследний год войны, со всеми вытекающими из этого для всей страны и каждого отдельного человека многочисленными и многосложными следствиями и обстоятельствами. Но в той картине мира, которая сложилась в сознании Кузьменышей, войне отведено место некоего стабильного, неизменного фона, некоей внешней данности, которую не оспорить и не изменить, потому что довоенной, безвоенной жизни они не помнят, не знают (для них это какие-то мифические, «невероятно давние времена» /132/, обозначаемые слитным новообразованием «довойны»), а о послевоенной жизни они почти не думают – не до того. Им бы сейчас, сегодня выкрутиться, исхитриться, увильнуться, «взять жратье», «не околеть»...
Практически у Кузьменышей есть только одно время – настоящее. И не только потому, что они дети, а у ребенка сиюминутное его положение и состояние поглощает эмоциональные и интеллектуальные ресурсы личности, но и потому, что они одинокие, заброшенные, вынужденные вести беспрерывную войну за выживание дети. Откуда взяться ощущению личной жизненной перспективы у тех, кому неведом даже самый факт собственного рождения, тем более – точная его дата; для кого «девятнадцать – это почти что старость» (151), предельной мерой понятия «всегда» является 20-летний возраст, а 30 и 40 лет кажутся старостью (179), лишенной памяти, т.е. не имеющей прошлого.
Абсолютной поглощенности юных героев настоящим в немалой мере способствует предельное напряжение всех сил, которого оно от них требует, его событийно-эмоциональная насыщенность, трагедийный накал.
Всего сутки отделяют везущего в последний путь мертвого брата Кольку от того момента, когда они с Сашкой проснулись в телеге Демьяна среди зарослей кукурузы по дороге из хозяйства в колонию. «Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно» (203), потому что между двумя этими временными точками – сейчас и вчера – были не только страх, бегство, погоня, разоренная колония; между вчера и сегодня стояла смерть. И не только смерть Сашки, зверски казненного за чужую вину, но и Колькина встреча лицом к лицу со смертью. Изнеможенный бегством от настигающего его по пятам ужаса, оставшийся в полном одиночестве, окруженный могильной чернотой, Колька по-звериному зарылся в земляную ямку и «исчез из этого мира. Провалился в небытие» (197).
А для воскресшего из небытия, потрясенного гибелью брата Кольки то, что предшествовало трагедии, отодвигается в предельную временную даль: «давным-давно»… (203).
Кроме ощущения личного времени, есть у юных героев Приставкина и некое условное школярски-книжное, мифологическое представление о времени историческом, о «каких-то отдаленных непонятных временах, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме» (5). Братьям и в голову не приходит, что эти литературные ассоциации, возникшие в их сознании в связи со словом «Кавказ», очень скоро обретут для них вполне конкретные, реальные и страшные жизненные очертания.
Недоверчиво воспринимают и иронически пародируют они рассказанную Региной Петровной историю о том, как в «невероятно далекие времена» приезжали на Кавказские воды «барышни и барины из северных столиц» в богатых экипажах только лишь затем, чтобы «попить Кавказских вод и привести в порядок здоровье»: «Воды-то были, они тут и до Кузьменышей текли. А вот что касается господ, ради ямок тащившихся без поезда из Москвы, тут братья откровенно засомневались. Ради чурека, скажем, ради картошки или алычи – другое дело…. Жрать захочешь, прискочишь… А вода, она и есть вода. Ешь – вода, пей – вода… срать не будешь никогда!» (94). И даже не подозревая, как страшно аукнется это в их судьбе, разыгрывают они пародийное представление на тему рассказа Регины Петровны, примериваясь к железному, похожему на гроб собачнику: «Гроб железный с музыкой! /…/ Из северных столиц…. В экипаже, на воды… Господа прибыли, Кузьмины!» (95). В таком собачнике и уедет навеки от Кольки мертвый Сашка.
Есть в повести и эпизод, когда пропущенные через сознание Кузьменышей исторические параллели придают повествованию трагикомическое звучание. Это та самая «возмутительная» сцена экспроприации продовольственных излишков у воронежской толстозадой торговки. Критический момент, когда «все изъято и надо красиво смыться» (33), дан сразу в двух глобальных по своему значению исторических проекциях – в сопоставлении со Сталинградской битвой и битвой на Куликовом поле:
«Как сказали бы в сводке Информбюро: окружение вражеской группировки под Сталинградом завершено. Пора наносить последний удар.
Для этого и стоит Сашка в засаде. Как отряд Дмитрия Боброка на Куликовом поле против Мамая. В школе проходили. Мамай, ясное дело, толстозадая пшеничная деваха», а Сашка, увидев, что «монголо-татары стали теснить русских» (что означает: деваха вцепилась в Колькин рукав), выскакивает из засады, чтобы «нанести решающий танковый удар», и с помощью точно рассчитанного отвлекающего маневра помогает Кольке вырваться и дать деру. На заключительном этапе операции в действо включаются населяющие поезд беспризорники – «пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток»: «Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки, они-то и притормозили вражеское продвижение фашистско-мамаевых орд. Как всегда в истории, исход сражения в конечном итоге решал народ» (33,34,35). Комический эффект создается сопряжением несопоставимых по своему масштабу и содержанию явлений, но это сопряжение таит в себе и трагический смысл, ибо в конечном счете и в том и в другом случае – и на полях грандиозных сражений, и в рыночной заварухе – решался один и тот же вопрос: жить или не жить.
Таким образом, в повести осуществляется скрещение времен: настоящего и историко-мифологического времени героев; настоящего (сорока годами отдаленного от описываемых событий) и прошедшего (совпадающего с настоящим временем героев) времени рассказчика. Эти хронологические переключения, переклички и сцепления создают художественный объем, ощущение исторической достоверности и общечеловеческой значимости происходящего с героями. Песчинки, несомые ветром жестокой судьбы, они невольные участники, свидетели и жертвы исторической трагедии.
Художественное пространство повествования не менее сложно и многопланово, чем время. Оно обозначено вполне определенными, исторически и географически достоверными координатами: Подмосковье – дорога на юг – Кавказ, но при этом очень личностно обжито и осмыслено, ибо это пространство жизни героев, пространство их судьбы. Два полюса, которые становятся жизненными центрами для Кузьменышей, этапами, вехами их жизненного пути, обозначены уже в первых строках повествования: «грязненькое» Подмосковье – таинственный и недосягаемый Кавказ.
Впрочем, «грязненькое Подмосковье» – это вúдение рассказчика, а не героев, а Кавказ для Кузьменышей поначалу лишь «остроконечное, сверкнувшее блестящей ледяной гранью словцо» (6). Реальное пространство их жизни – голодный и холодный детдом. Центр же мироздания, средоточение всех помыслов и желаний – ХЛЕБОРЕЗКА. «Вот так и выделим шрифтом, – подчеркивает рассказчик, – ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!» (6). Заметим, тем не менее, что есть несомненная перекличка в звучании ([зка] – [каз]) этих двух так далеко, казалось бы, отстоящих друг от друга слов и что в этой перекличке кроется тайный зловещий смысл. Но Кузьменышам не до лингвистических изысканий, для них «все дороги ведут к хлеборезке» (11) и кавказское изобилие измеряется все тем же: «Горы размером с их детдом, а между ними повсюду хлеборезки натыканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свешал, сам в себя поел. Вышел – а тут другая хлеборезка, и опять без замка» (17).
Заочно Кавказ предстает еще в одном, не менее субъективном, измерении: прислушиваясь к разговорам о возможной отправке изголодавшихся беспризорников в край изобилия, Кузьменыши скептически предвидят, что «никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут… В пустыню превратят! В Сахару!» (13).
Без малейшего сожаления расстаются они с томилинским детдомом, с Подмосковьем, с самой Москвой: «да пропади пропадом, задарма, этот неуютный, немытый, проклятый, выхолощенный войной край!» (24). (Сквозь приставкинский текст просвечивает, придавая ему дополнительную болевую окраску, лермонтовское «Прощай, немытая Россия!») Что впереди, неизвестно, но того, с чем расстаются, не жаль. «Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмосковье, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне. По военной – по пустыне – надо сказать» (25).
Пустыней для них окажется и «благословенный горный край» (60) – «пустынно и глухо» встречает их чужая, таинственно и враждебно затаившаяся «красивая земля» (61).
Окружающий мир может быть невыразителен и грязен, как Подмосковье, может быть поэтически прекрасен, как Кавказ в то природно безмятежное утро, когда, очнувшись после забытья, Колька отправляется искать брата. «…Было голубо и мирно», солнечно и отрадно, и «не верилось, не представлялось, что в такое утро может происходить хоть какое-нибудь зло» (198). На фоне этой красоты Колька и увидел распятого брата…
Красивый ли, неприглядный, мир оставался для него пустыней. «Никого рядом не было» (202) в это самое страшное утро Колькиной жизни. Никого не было и когда он сквозь ночь вез мертвого брата, и «если бы Колька мог сознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции» (204).
Но пустынность мира – не изначальное, естественное, а рукотворное, злоумышленное его состояние. Источник зла обозначен в повести опосредованно, косвенно, и это очень точный с психологической и художественной точки зрения ход, так как дети назвать его не могли, а прямое обличение от лица рассказчика перевело бы повествование из художественного в публицистический план. Но когда эти обреченные на гибель в пустыне своего одиночества дети вместе с блатными песнями столь же искренне, как само собой разумеющееся, распевают балладу о «соколе» Сталине, который «сделал счастливой всю страну родную» (140); когда Колька, замерзая в горах вместе с Алхузуром, орет изо всех сил песню «о Сталине мудром, родном и любимом» (229); когда юные обитатели детприемника, вслед за своей подозрительной для власть предержащих воспитательницей-немкой, благодарят «товарища Сталина за… счастливое детство» (243), – этого вполне достаточно, чтобы социальная картина мира сложилась во всей своей удручающей полноте.
Пустыня, которой оборачивается жизненное пространство для героев Приставкина, оставляет лишь одну возможность выживания. В пустыне нельзя, да и негде, остановиться, приткнуться, осесть, пустыню нужно попытаться преодолеть, пересечь, избыть – непрестанным движением сквозь нее. Выжить можно только «вместе и в поезде» – так формулируют для себя братья, не подозревая, что выводят философскую формулу бытия для скитальцев и изгоев в родной стране. Рассказчик подтверждает: «К поезду, к вагону да и к дороге мы привыкли, это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов.
Вся Россия была в движении, вся Россия куда-то ехала и мы были внутри ее потока, плоть от плоти – дети ее» (61).
И завершается повесть не обретением пристанища ее бесприютными героями, а их отъездом в пустом, неубранном вагоне в неведомую даль. «Никто никуда, кроме них, не ехал в этот первый день нового года» (244). В их обреченности на бесконечное перемещение – обездоленность, неприкаянность и бездомность. Кто они? Семена в пустыне, «перекати-поле, куда ветер повернет, туда и гонит»; про Кольку кто-то однажды так и сказал: «Перекати-Коля» (76). А еще – тучки…. Но не только из того лермонтовского стихотворения, строка которого стала названием повести, но не в меньшей мере из другого, еще более трагичного – те тучки, которые «небесные вечные странники»(53). Не играющие по лазури, не веселые и беспечные, а вечно гонимые, бесприютные: «Нет у вас родины, нет вам изгнания…».
Слово
У событий, изображенных в повести Приставкина, помимо описанных выше эмоционально-психологических и социально-исторических параметров, есть еще одно, чрезвычайно важное, измерение – общечеловеческое, вневременное. «Ночевала тучка золотая» – это повесть-притча, восходящая к Книге и сокровенным своим, глубинным, итоговым смыслом корреспондирующая с ней.
Вообще литературных аллюзий, реминисценций, прямых цитат в повести, начиная с названия, очень много. Вместе взятые, они создают тот культурный контекст, в который Приставкин вписывает свое вúдение кавказской трагедии. Но самое мощное и самое важное духовно-нравственное излучение, пронизывающее повествование от начала до конца, трагически освещающее судьбу приставкинских «детенышей», идет от Библии.
Уже в первой фразе – «Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер» – помимо прямого, лежащего на поверхности смысла (так запечатлелось начало событий в сознании его участников), совершенно очевидно содержится намек на первоисточник, пратекст, объясняющий начало всех начал: «В начале было Слово…» (Иоан.1,1). И хотя автор «Тучки», как уже говорилось ранее, выражает сомнение в способности слова быть полновесным воплощением живой жизни, оно все равно остается единственным строительным материалом художественного мира книги, его первоначалом, плотью, формой существования. Да и в мире реальном власть его несомненна и повестью Приставкина убедительно подтверждена.
Чтобы истребить народ, мало физически уничтожить или рассеять по свету его представителей, мало место расчистить – надо это место переименовать, чтобы новым словом, как заклинанием, вытеснить, изжить, избыть старые реалии. В зловещий, гибельный смысл акции переименования интуитивно проникает Алхузур. Когда Колька рисует ему схему расположения заначки и обозначает на ней станицу Березовскую, «чернявый Сашка» горячо протестует: «Нет Пересовсх… Дей Чурт – так называт!» (217). Переименование Могилы Отцов (так переводится Дей Чурт) неизбежно влечет за собой буквальное выкорчевывание могил, каменными плитами с которых выстилается путь в пропасть, – очевидная кощунственная демонстрация могущества и несокрушимости силы, властвующей над живыми и мертвыми, над прошлым и будущим. Так это и понимает чуткий Алхузур: «Камен нэт, мохил-чур-нэт… Нэт и чечен… Нэт и Алхузур… Зачем, зачем я?» (222).
Но в другом случае тот же Алхузур добровольно соглашается на переименование, когда, опять-таки интуитивно, прозревает, что только так можно спасти от гибели чужого ему пока еще мальчишку. Ни разжеванные орешки, ни ягоды, ни вода – ничто не оживляет Кольку, умирающего от тоски по брату. И только когда в ответ на очередной его призыв раздается косноязычное: «Я, я Саск… Хоти, и даэк зыви… Буду Саск…» (216), – он начинает возвращаться к жизни. Это тот самый случай, когда слово равно жизни, когда оно являет свою библейскую мощь.
Впрочем, само библейское слово, библейские темы и образы, пронизывающие повесть, часто оказываются в горько ироническом, едва ли не антагонистическом первоисточнику контексте. В сознании голодных, бездомных детей существует своя, хотя и апеллирующая к библейской, построенная на заимствованных из нее словесно-смысловых блоках, но по существу опровергающая ее картина мироздания. Центром, «святая святых» этой воображаемой вселенной является ХЛЕБОРЕЗКА, куда на работу назначали «самых избранных», «счастливейших на земле», «как господь бог назначал бы, скажем, в рай» (6). Сам рай поминается в повести многократно, в разных контекстах (тетка Зина, например, толкует обещание конвойного сопроводить их в рай в полном соответствии со всем опытом своей жизни: «в рай – это на расстрел» /114/); и чем чаще, по контрасту с нарастающим трагизмом, звучит это слово, тем очевиднее: «рай» выступает атнонимическим заместителем подразумеваемого, но не выговориваемого до поры до времени, дозревающего, набухающего своим страшным кровавым смыслом слова-приговора происходящему: «ад».
Философская формула бытия, сложившаяся в сознании героев, предельно проста и неопровержимо убедительна: «Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует» (7). Нравственный кодекс узнаваем с точностью до наоборот: «В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться…» (133). Такое вот обстоятельствами продиктованное уточнение библейской заповеди. И при этом – искреннее, страстное упование на то, что там, наверху, поймут и даже помогут. Перед тем, как украсть вожделенный, одуряющий немыслимым съестным запахом, настоящий, но виденный до этого только в довоенном кино белый батон с золотой корочкой, «помолились братья про себя. Так попросили: “Господи! Не отдай никому, побереги, пока наш срок не подойдет! Отведи в сторону, господи, тех, у кого мошна большая, кто мог бы до нас это белое чудо-юдо схавать… Ты же видишь, господи, что нам дальше нужно ехать, а если мы сейчас упустим… Да и жрать охота, господи! Ты хлебами тысячи накормил (старухи сказывали), так чуть-чуть для двоих добавь!”» (30). Сколь многих благочестивых молитв эта – искренней, проникновенней и достойней быть услышанной…
Но все происходящее с детьми, весь трагедийный накал повести, человеческая и надчеловеческая глухота к детской мольбе, казалось бы, беспощадно свидетельствуют, что «нет в создании Творца и смысла нет в мольбе»…
«Библия – это такая большая, большая сказка» (165), – то ли шутя, то ли всерьез объясняет своим невежественным подопечным Регина Петровна. В контексте происходящих в повести событий возникает искушение согласиться: сказка. Ибо жизнь – сама по себе, Библия – сама по себе. Но эта «сказка» жестоко мстит за недоверие к преподанным ею урокам и страшно сбывается в судьбе приставкинских героев.
Вдоль всего их запечатленного на страницах книги пути расставлены библейские вехи – знаки высшего предначертания и особого предназначения. Поезд-«ковчег», собравший из подмосковных детдомов «каждой твари по паре» – не на спасение, а на гибель избранных, увозит детей в «землю обетованную». «…Благословенный гордый край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета, обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре» (60), но, злодейским своеволием превращенный из благословенного в смертью засеянный и смертью плодоносящий, край этот, становится для них адом, а «библейские горы» выступают бесстрастным и равнодушным фоном жалких потуг прокормиться и выжить. Горячее крещение в серных ваннах оказывается актом приобщения к страшной участи других переселенцев-изгоев. Неминуемую катастрофу предчувствуют неожиданно проснувшиеся детские души – те самые души, «о которых говорят, что их, то есть душ, будто бы нет» (62). Накануне трагедии Кузьменыши переживают настоящее духовное возрождение – новое, неведомое ранее ощущение полноты жизни и неразрывно сопряженное с ним осознание неотвратимости смерти. Но чем пронзительнее и богаче приобретенная братьями человечность, тем неизбежнее Голгофа.
За чужие грехи, чужую вину, чужие преступления распят Сашка.
Для того чтобы окончательно не рухнул, не утратил право на существование и сохранил шанс на спасение этот безумный мир, воскресает Колька.
Жертвенный образ Сына Человеческого, несомненно, озаряет своим светом Кузьменышей – человеческих детенышей, в судьбе которых, как и в судьбах множества прошедших по земле людей, отразилась Его земная участь.
Но не менее существенна для понимания глубинного смысла произведения другая библейская аналогия. Для того чтобы ее, не лежащую на поверхности, не прописанную прямо, но несомненно существующую, возможно, даже помимо воли автора возникшую, уловить, следует вернуться к вопросу, которым мы задались в начале: почему Приставкин поместил в центр повествования не одинокое «беспризорное дитя», заявленное в посвящении, а двух неразлучных братьев-близнецов?
Такое художественное решение не имеет под собой биографической основы (будущий писатель в своих скитаниях был одинок) и, на первый взгляд, смягчает, облегчает ситуацию: судьба одинокого скитальца, тем более одинокого ребенка, трагичнее. Одно из объяснений такого авторского выбора кроется, по-видимому, в изложенной выше «евангельской версии» судьбы Кузьменышей. Обычное дитя человеческое не может в полной мере перетащить на себе такую аналогию. Братьям-близнецам, мыслившим себя как единое целое, но при этом сохраняющим личностную автономность, это оказалось под силу: гибель одного из них означает гибель обоих, воскресение Кольки – это продолжение жизни Сашки.
Однако сама идея братства, судя по тому, как она Приставкиным подана, интерпретирована, в какой контекст вписана, тоже оттуда, из Библии, заимствована, из изложенной в ней истории человеческого рода. У истоков этой истории, в основании ее – несостоявшееся братство, братоубийство, эхом отозвавшееся в веках вопросом-упреком человеку: «Где брат твой?» (Быт.4,9). Проклятие, ниспосланное свыше братоубийце Каину – «ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт.4,12), – тяжким грузом легло на судьбы миллионов его потомков.
«Изгнанники и скитальцы» – это социальный статус и экзистенциальное самоощущение приставкинских Кузьменышей. Тучки… Вечные странники… Безмерная тяжесть наказания – «больше, нежели снести можно» (Быт.4,13) – многократно усилена тем, что несут его дети. По логике героя Достоевского, в самый раз бы «вернуть билет», миру Божьему отказать в своем личном приятии . Но судьба героев Приставкина выстроена по другой логике. Всем своим существом, жизнью своею они искупают прародительскую вину – восстанавливают изначально поруганную святыню братства. Вот почему идея братства пронизывает повесть от начала до конца, вот почему рядом с Колькой на месте погибшего Сашки появляется Алхузур. Нет, не утешительно-сентиментальный, как привиделось некоторым критикам, а библейски масштабный, притчевый финал у этой книги.
Братский тандем Кольки и Алхузура подчеркивает, усиливает, делает неопровержимо наглядным то, что утверждалось с самого начала неразрывностью «первых» Кузьменышей: братство в повести Приставкина – это внесемейная, внеродовая, наднациональная ценность, это братство во человечестве, а не в тесном, замкнутом пространстве семьи или рода. Совершенно разные во всем, изначально разным мирам принадлежавшие, всеми обстоятельствами своей жизни проговоренные к тому, чтобы быть врагами, Колька и Алхузур не просто друзья – они братья, восстанавливающие своим союзом не состоявшуюся в начале земного бытия гармонию сосуществования. Вместе с убиенным Сашкой, его устами, вопреки очевидности и в поучение ей, они свидетельствуют: «все люди братья» (231).
Изгнанниками и скитальцами живущие на земле, пропитанной со времен Каина кровью миллионов братьев, герои Приставкина, сами того не ведая, являют собой оправдание погрязшего в грехе братоубийства человечества и надежду на его спасение, залогом которого может стать только осознание очевидной для них, выстраданной ими истины. На отчаянный вопрос потрясенного разорением родового кладбища Алхузура «Зачем, зачем я?» Колька исчерпывающе просто отвечает: «Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть» (222). Альтернативу формулирует он же, в мысленном разговоре с убийцей брата: «Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют… А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты – погибнете» (206). Устами младенца…
В повести Приставкина нет авторитарного, назидательного, безошибочного в своей императивности слова, как в классической притче. Истина здесь звучит из детских уст, негромко, без пафоса, порой, когда это уста Алхузура, косноязычно, словно заново, в муках, рождаясь. Но от этого она не перестает быть истиной. Имеющий уши да услышит.
А чтобы услышавших было больше, чтобы люди наконец научились сопрягать прошлое и настоящее, чтобы не множилось, а пресекалось зло, чтобы не угасала надежда, школьный учитель должен сделать все от него зависящее, чтобы его ученики прочли эту горькую, мудрую, пронзительно человечную и так страшно актуальную сегодня книгу – только тогда она не останется, как того опасался автор, «криком в пустоту».
А Приставкин. Ночевала тучка золотая. Повести. М.: Изд-во «Правда», 1990. С. 5. (В дальнейшем ссылки на это издание даются указанием страницы в тексте статьи.)
В тексте повести есть намеки на то, что этим мальчиком, спасшим Регину Петровну, был Алхузур: из разговора его с Колькой выясняется, что он знает о взрыве и пожаре в колонии, а Регине Петровне, которой он будет предъявлен в качестве Сашки, все кажется, что она его где-то видела.
«Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю», – говорит Иван Карамазов брату (!), объясняя свой отказ от права на вход в царство «высшей гармонии» тем, что «не стоит она слезинки хотя бы одного только /…/ замученного ребенка». (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы // ПСС в 30 т. Т. 14. Л.: «Наука», 1976. С. 223.)
Урок -конференция
Призыв к Правде, Добру иСправедливости в повести
А.Приставкина «Ночевала тучка золотая»
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.Объявление вопросов к повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»
(за 2-3 недели).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Анатолий Приставкин и судьба его повести «Ночевала тучка золотая».
2. Проблематика повести.
3. Война и дети.
4. Какими героями представлен в повести мир зла и кто этому миру противостоит? Кому адресованы слова писателя: «кому война – кому мать родна?
5. Кузьменыши… Как складываются в сложных нечеловеческих условиях их судьбы?
6. Братство Кольки и чечена Алхузура – символично ли оно?
8. Смысл названия повести.
Цели:
1. Показать особенность изображения исторических событий в повести, проследить судьбу братьев в тяжкие годы войны; рассмотреть роль государства в судьбе целого народа и отдельной личности; совершенствовать умения и навыки учащихся при анализе эпизода художественного произведении
2. Отработать материал по теме, совершенствуя навыки самостоятельной работы учащихся со справочной и художественной литературой.
3. Уяснить нравственные уроки Приставкина, определив вечные ценности жизни.
Ведущие методы: эвристический, исследовательский, метод творческого чтения, пересказа.
Ведущие приемы: эвристическая беседа, выразительное чтение, музыкальные заставки, аналитическое чтение текста, слово учителя, самостоятельная работа учащихся.Оборудование: мультимедийный проектор для воспроизвдения презентации;
ХОД КОНФЕРЕНЦИИ
I . Вступительное слово учителя.
Дорогие ребята! Сегодня мы будем обсуждать повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Это откровение о том, о чем долго умалчивалось: о лишении прав, уничтожении сталинским режимом целых народов. Стремление воссоздать прошлое, понять его, извлечь из него нравственные уроки заставило писателя обратиться к горьким страницам истории 40-х годов, к переселению чеченцев из Кавказа.
а) «Правда – это всегда болевой шок, но на нее вся надежда. Она должна питать нашу мораль, нравственность»(запись в тетрадь)
б) «Правда – это единственное, что вылечит наше общество ».
Главная цель повести – правда о прошлом – противостояние забвению. Рассказ о войне глазами детдомовского ребенка.
Песня «Дети войны»
Почему дети стали главными героями повести А.Приставкина?
Какие события стали исторической основой повести?
Как связана судьба писателя и история страны?
Расскажите на примере фактов из биографии А.Приставкина?
История создания повести
Повесть о том, как в конце войны часть детдомовцев из голодного Подмосковья вывозили на Северный Кавказ. Это идея, вроде бы гуманная, обернулась, увы, невиданной жестокостью. Ведь в ту же пору с Северного Кавказа указом Сталина изгоняли на вечную ссылку целые народы. Часть коренных жителей, не знавшая за собой никакой вины и просто не понимавшая происходящего (да и кто бы понял!), отчаянно цеплялись за дедовскую землю…
Солдаты выполняли приказ, уверенные, что наказывают врагов. Горцы защищались, как могли. И в этом братоубийственном безумии закрутило, как щепки в омуте, детдомовских детей из Подмосковья, которых отправляют на Кавказ
Именно о войне против целого народа, увиденной глазами детдомовского ребенка, который не понимает ни смысла, ни цели происходящего, рассказывает А.Приставкин в повести,.
Целых семь лет ждала повесть своего читателя, написана в 1981 году, опубликована в 1987 году, она автобиографична. Анатолий Приставкин – участник и очевидец тех далеких событий, в этом еще большая ценность повести
II . Какова проблематика повести А. Приставкина? Обсуждение с учащимися.
Судьба детей в годы войны;
проблема добра и зла;
проблема жестокости и милосердия;
проявление характера человека в сложных ситуациях военного времени;
проблема межнациональных отношений.
причины возникновения межнациональных конфликтов;
проблема памяти как нравственно значимой в осмыслении истории народа.
Выводы учителя: из всех проблем, которые поставил автор, мы с вами три главные – война и дети, межнациональные отношения, проблема памяти как нравственно значимой в осмыслении истории народа. Переходим к подробному освещению первой проблемы – 3-й вопрос урока-конференции.
III . Война и дети.
1.Как освещен трагический мир военного, голодного, бездомного детства в повести.
1 группа
Сиротское детство Кузьменышей. (подготовить пересказ,выписать цитаты)
1.Жизнь в подмосковном детском доме.
2.Как спасались дети от голода.
3.Как изображаются детдомовцы в пути на Кавказ.
4.Как себя чувствуют себя дети на чеченской земле?
5.Какую роль сыграл чеченский мальчик в судьбе Кольки?
Учащиеся приводят примеры из текста об условиях жизни детдомовцев, об их незащищенной, никем не оберегаемой жизни, о голоде, который порабощал человека физически и морально: «в детдоме… за корочку попадали в рабство на месяц, на два».
Работа класса
Как характеризуют выбранные цитаты положение детей в детском доме дома?
1"Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелины, очистков и, как верха желаний и мечты, корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только военный день.
2.Самой заветной, да и не сбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: ХЛЕБОРЕЗКУ , вот и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недосягаемой, чем какой-то Казбек.
3..Слюна накипала во рту. Схватывало живот В голове мутнело. Хотелось завыть, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы открыли. Пусть потом в карцер, куда угодно. Накажут, изобьют, убьют. Но сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, грудой, горой Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе. Как он пахнет!
4..На плоском дощатом прилавке, не в центре его, откуда не выскочишь, а с краю, на тряпочке выставлен ржаной, домашней выпечки хлеб, аккуратно порезанный на округлые ломтики. А рядом вовсе чудное, белое, длинное. Колька увидел, будто споткнулся на ходу. Уставился заворожено . Сашка его легонечко в бок шуркнул: "Чево, как баран на новые ворота-то... Батон это! Белая булка такая, в кино показывали... " Прошептал, а у самого в горле как кусок глины завяз, ни проглотишь, ни выплюнешь...
5.Видел Сашка в одном довоенном кино, будто прямо на улице булочная стоит, а кто-то заходит, и покупает такое белое и говорит: "Батон мол купил!". Неужто не понарошку продавали? Да без карточек? Да прям целиком!".
Смысл названия повести.
Почему же повесть названа строчками из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ночевала тучка золотая»? Какое символическое значение имеет название?
Стр 209 . Выразительное чтение отрывка из гл.28 и ответить на поставленный вопрос (чтение на фоне музыки (например “Лакримоза” Моцарта) отрывка от слов “Может этот холм и есть утес…” до конца главы
УТЕС
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне. М.Лермонтов
Ответы учащихся.
Лермонтовские строки – лейтмотив всей повести,.Учащиеся ссылаются на текст, где обнажает автор мысли Кольки, думающего, что тучка – поезд, который увез Сашку, или Сашка – тучка, а Колька - утес.,»потому и плачет, что стал каменным, старым, как весь этот Кавказ. А Сашка превратился в тучку… Тучки мы… Влажный след… Были и нет».
Золотая тучка - это душа ребенка, чистота и незащищенность.
Александр Межиров: «Жизнь виновата перед детьми, их Ангел-хранитель имеет лицо печальное, потому что нет большей печали, когда ребенок принимает на свои плечи горе взрослых».
Вывод учителя
Война и дети . Что может быть страшнее сочетания этих двух слов? Писатель говорит суровую правду о 500 детдомовцев Подмосковья, отправленных на Кавказ осенью 1944 года. Потрясающая картина –ребятня, собирающая себе на пропитание овощи на пустых полях. За сердце трогают слова машиниста, доброго человека, сказавшего: «Россия не убудет, если детишки раз в жизни наедятся…». Да, не убудет, ведь дети - ее будущее…
IV .МИР ВЗРОСЛЫХ.ПРОБЛЕМА ЖЕСТОКОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ
3 группа
Мир взрослых в повести (перескажите примеры и выпишите цитаты) - 3 вопроса
1.Подберите примеры милосердия и жестокости взрослых.
2.Как изображен директор Таловского детдома Владимир Николаевич Башмаков.?
3.Образ Регины Петровны. Какую роль она сыграла в жизни детей?
4.Как заведующая Ольга Христофоровна защищает детей?
Как показан мир взрослых в повести?
Какими героями представлен в повести мир зла и кто этому миру противостоит?
МИР ДОБРА
Гл 23-24
Регина
Петровна
директор Петр Анисимович Мешков, сердобольная тетя Зина с консервного завода.
События военных лет на Кавказе потребовали от каждого человека незамедлительного проявления его гражданских качеств. Великую человечность проявляет Регина Петровна, взявшая на себя ответственность не только за своих "мужичков", но и за Кузьменышей, когда устраивает для детдомовцев их первый за 11 лет день рождения. Одноногий Демьян в момент нападения чеченцев успел предупредить: "Не беги ты кучей! Рассыпься... Им ловить хужей!".Добросердечие, милосердие, умение сострадать, человечность, бескорыстие, в ущерб себе помогать другому
В этих людях война Доброе сердце не убила.
МИР ЗЛА
Как вы понимаете слова писателя: «Кому война – кому мать родна»
Воспитателем детского коллектива выведен жулик и прохвост Виктор Викторович , который обирал несчастных и голодных: "А самую главную часть берут для директора для его семьи и его собак. Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают". Обратим внимание на страдания детей: "И этот директор отправил детей в путь без пайка. Где его плюгавенькая совесть была: ведь знал, знал же он, что посылает двух детей в голодную многосуточную дорогу! И не шевельнулась та совесть, не дрогнула в задубевшей душонке ни одна клеточка". И будь Виктор Викторович единственным в своем роде бессердечным директором: читатель просто вздохнул бы: "Не повезло ребятам". Приоткрывая завесу над тайной детского беспризорничества, Приставкин с горечью констатирует, что бездушных людей, ответственных за судьбы детей еще немало.
Это и директор Таловского интерната Владимир Николаевич Башмаков, проводник Илья, доставлявший детдомовцев на Кавказ и др.
Такое нам еще не знакомо. Детдомовцы знали себе одно имя - "шакалы", соглашались с ним вынужденно, потому что действительно были всегда голодны: "И вдруг... Кишки от этого "вдруг" защипало. Запах ошалелый пошел, по полкам, по вагону, по поезду. И по тем самым кишкам - будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом. Хоть бы не скребли, гады, ложкой по жести, от этого звука судорога начиналась в животе, будто это тебя, тебя как банку ложкой выскребают".
Государство выделяло средства из военного бюджета на сохранение поколения, а здоровые и сытые дяди обирали детей, наживались на человеческом горе. Вот для них-то и звучит: "Кому война, а кому мать родная".
Жестокосердие взрослых, голод, чувство самосохранения заставляли детей воровать, промышлять на рынках, опустошать по дороге поля, набивая впрок изголодавшиеся желудки . Сколько жизней раздавлено, сколько судеб сломано. Итогом жизни таких людей является человеческое проклятие.
ВЫВОД.КАКОВЫ ЧЕРТЫ МИРА ВЗРОСЛЫХ? (запись в таблицу-2 графы (мир взрослых, мир детей) ЗАПИСЬ В ТЕТРАДЬ
ДОБРО - Милосердие,сострадание,человечность, бескорыстие, добросердечие.
ЗЛО - жестокосердие, чувство самосохранения, воровство, бездушие
А.Приставкин « Зло порождает зло и нет этому конца»
Вывод учителя
Детство, искалеченное войной, - все разом все на войну списываем. А в повести мы увидели, что взрослые творят над детьми зло. Беззащитность и произвол – все это вносило в души детей смятенье, растерянность. С детства отучали замечать чужую боль, сострадать, защищать слабого. Только дети объединены в повести общим горем, одной судьбой.
А.Приставкин пишет: «Примите же это не высказанное, от моих Кузьменышей и от меня лично, запоздалое, из далеких 80-х годов непрощение вам, жирные крысы тыловые, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны».
V .МИР ДЕТСТВА.КУЗЬМЕНЫШИ.(5 вопрос)
Как складывается судьба братьев Кузьминых? (2 вопроса)
2 группа
Мир детства в повести. Кузьменыши (составить план или таблицу)
1.Сходство и отличительные черты братьев.
2.Отношение друг к другу.
3.Поведение Кольки, оставшегося в одиночестве.
4.Как Колька постигает смерть брата.
5.Каковы взаимоотношения Кольки и чеченского мальчика Алхузура.
1Кузьменыши… Как складываются в сложных нечеловеческих условиях их судьбы?
« Друг у друга они есть… Значит, куда бы их не везли, дом их – это они сами»
2.. КАКИЕ ПРИМЕРЫ ИЗ ТЕКСТА ПОДТВЕРЖДАЮТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ХАРАКТЕРОВ БРАТЬЕВ?
3. КАК ОНИ ОТНОСИЛИСЬ ДРУГ К ДРУГУ?(работа над эпизодом « »Болезнь Сашки»)
Гл 6
КЛАСС
4 КАК КОЛЬКА ПОСТИГАЕТ СМЕРТЬ БРАТА?
Ребята зачитывают:
"Две головы Кузьменышей … варили по-разному. Сашка как человек миросозерцательный, спокойный, тихий извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал. Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь, то бишь, доход.
В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрей. А уж четыре глаза вострей видят, когда надо ухватить, где что плохо лежит. Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих.
А уж комбинаций всяких из двух Кузьменышей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев поет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока на первого оглянулись, второй - шмыг, и нет его. Оба брата, как вьюны верткие, скользкие: раз упустил - в руки обратно уже не возьмешь".
Колька не выдерживал монотонного верчения жернова, Сашка крутил до конца. Сашка кизяков видеть не мог, Колька собирал с охотой. Сашка доверчиво вылез из зарослей кукурузы навстречу чеченцу, Колька зарыл себя в землю, "исчез из этого мира", Мы видим, как по-разному, относились Кузьменыши к отдельным проблемам.
Они не мыслят жить друг без друга. Как единый организм, они никогда не разлучались . В повести есть эпизод болезни Сашки, когда врачам пришлось силой отделить его от брата.
"Колька сообразил, залез под вагон и оттуда через пол попробовал переговариваться с братом, пока врачей не было. Сашка глуховато отвечал. Приложив ухо к деревяшке, можно было разобрать. Тогда Колька набросал между рельсов травы да лопухов и сделал себе лежак, спал под тем пестом, где находился Сашка. И чтобы знать, что Колька при нем всегда, он постукивал по дну вагона камешком, Сашка ему отвечал".
В свои одиннадцать лет, они копили уже на черный день, делали заначку, в которую входили и банки с джемом, фуфайка. "Добро" годилось для будущего побега.
Нет. Колька может умереть без заначки, а он, Сашка, не поедет, пока не увидит воспитательницу: "И плеватъ ему на заначку! Не может уехать без Регины Петровны и ее мужичков! А то получится, что спасают братья сами себя, а такого человека, как Регина Петровна, оставляют тут погибать! Они должны вместе бежать, вот что он понял". Сашка больше заботился о других, себя он воспринимает, как частичку окружающего мира, в котором все разумно, надо только прикинуть, как лучше все употребить в д ело.
"Колька не мог наподобие Сашки заранее высчитать и выложить. Не так у него мозги устроены. Но он понимал: если вещь валяется, ее надо подобрать. А опосля думай, что да зачем". Колька практичнее брата, он способен осмыслить уже свершившийся факт.
ЧТО ПРОИЗОШЛО С ДЕТЬМИ НА КАВКАЗЕ?
"Ему вдруг стало холодно и больно, не хватало дыхания . Все оцепенело в нём, до самых кончиков рук и ног. Он даже не смог стоять, а опустился на траву. Страшная отрешенность владела им . Он будто не был самим собой, но все при этом помнил и видел. Заорал, завыл, закричал... Наверное, он сильно кричал - он кричал на всю деревню, на всю долину; окажись рядом хоть одно живое существо, оно бежало бы в страхе... Но голос его иссяк, он запнулся и упал в пыль... Сел, отряхивая пыль с головы, вытирая лицо рукавом. Все, что он делал дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что осознавая. Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь.
Все худшее, что могло бы с ним случиться, он знал, уже случилось".
Колька не хоронит брата. Он отправляет его, как и мечталось, в путешествие, положив в ящик под вагоном. Взрослая мысль о захоронении не приходит к мальчику. Воспаленный мозг подсказывает будущее живому Сашке, о мертвом Колька не может думать, разговаривая с телом брата. Ощущение слитности не проходит, и на вопрос Ильи: "Ты Колька или Сашка?" - отвечает: "Я - обои".
Приставкин о сцене прощания Кузьменышей пишет сухо, даже скучно. Но пробирает оторопь, как представишь себе последний приют мальчика и человека, который обнаружит маленькое, истерзанное тело.
Вывод учителя « Ощущение беспросветного ужаса», которое пришло после осознания того, куда они приехали (пустота, брошенные дома, сады, огороды; переселенцы, боявшиеся возмездия хозяев), заставляет Кузьменышей решиться на бегство. Дети, оказавшись в центре братоубийственной войны взрослых, стали ее жертвами.
Примеры из текста : разгром колонии, убийство Сашки. «Зло порождает зло и нет этому конца», - горько итожит Приставкин.
VI . Братство Кольки и чечена Алхузура – символично ли оно?
ЧТО СПАСЛО КОЛЬКУ ОТ БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ СТРАШНЫМ ПОТРЯСЕНИЕМ? (главы 29 – 30)
Как чеченский мальчик ухаживает за Колькой?
РАБОТА НАД ЭПИЗОДОМ « Колька и Алхузур»
Почему чеченский мальчик отказваается от собственного имени?
Ученики. Рассказ о встрече Кольки с Ахузуром . «Все люди братья» - слова Сашки – символичны. Только дети в этих нечеловеческих условиях находят возможность понять друг друга. «Я Саск» - слова Алхузура выражают главную человеколюбивую идею, идею дружбы народов (главы 29 – 30).
Братская любовь чеченского мальчика: "Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. А где тогда Сашка? И почему этот чужой, чернявый Сашкино новое лицо взял и Сашкиным новым голосом говорит. А где Сашка? Голоса своего он не услышал, но чужой голос понял:
- Саск нет. Ест Алхузур. Мына так зыват. Алхузур. Понымашь?
« Не-е, - сказал Колька. - Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет".
Маленький чеченец чувствует, как тяжело Кольке, он полон сострадания, чем может,облегчает мучения, по-братски делясь последними крошками. Только такая знакомая братская помощь помогает Кольке вернуться к жизни: "Потом он опять спал, ему виделось, что чернявый, чужой Алхузур кормил его по одной ягодке виноградом. И кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом Кольке дает. Однажды он сказал: "Я, я Саск. Хоти, и даэк зови. Буду Саск".
Совсем еще маленький человек интуитивно смог ощутить, что только Осознание живого Сашки сможет поднять больного. Мудрость мальчика заставляет его отречься от собственного имени во спасение гибнущего. Гражданский поступок Алхузура совершил ожидаемое чудо: Колька поднялся, но уже ничто не заставит его увидеть в чеченце врага.
ВЫВОД КАКОВЫ ЧЕРТЫ МИРА ДЕТСТВА? (запись в таблицу)
Добросердечные, братская любовь,мудрые,сострадательные бескорыстные
А.Приставкин «Все люди братья «(запись в таблицу) -интернационализм
Выводы учителя : Писатель говорит: Есть люди – плохие и хорошие. Как писал о повести Л. Жуховицкий, «взрослые граждане страны Советов разных национальностей преследуют и убивают друг друга, а дети разных национальностей братаются. Русский и чеченец спасают друг друга и действительно становятся братьями, по наивному и мудрому детскому обычаю, они, надрезав пальцы, смешивают кровь…». И в детприемнике появились опять братья Кузьмины, один – белый, другой – черный.
VII .ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
В чем причины национальных конфликтов? (приведите примеры из текста)
АНКЕТИРОВАНИЕ
- В чем, по-вашему, причина национальных конфликтов?
личная неприязнь- 12
Желание превосходства народов - 5
интересы,несоответствие религий,месть, обида за прошлое, разделение земель, неуважение других наций, нет толерантности
Обратите внимание. только 2 учащихся назвали виной нац.конфликтов идею , вспомним роман «Преступление и наказание» , мировую историю
Какую опасность несут эгоистичные философские и политические идеи?
Как изображено отношение детей и взрослых к национальному вопросу?
4 группа Национальный вопрос в повести
1.Отношения русских и чеченцев (подобрать примеры жестокости и милосердия)
2.Каких национальностей были дети в приемнике?
3.Как Кузьменыши относились к детям других национальностей?
4.Как ведет себя маленький чеченец по отношению к Кольке?
5.Как противопоставлено отношение взрослых и детей к национальному вопросу.
Ученики. Примеры из текста.
Илья Зверев (Зверек) – проводник (глава 12), солдат Демьян о себе и переселенцах (13, 25), тетя Зина (глава 15), смерть Веры (глава 19), рассказ Регины Петровны (глава 21), разбой, гибель всех колонистов (глава 25), рассуждения Кольки (глава 27), солдаты жгут урожай, выживая чеченцев (глава 28), разорение кладбища Дей Чурт (глава 29) , Виктор Иванович (глава 30).
Ребята говорят также об увиденном Колькой на станции Кубань зловещего вагона (дети-переселенцы). Взрослые и дети противоречиво оценивают эти события.
1.ВСПОМНИМ, КАКИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ДЕТИ БЫЛИ В ПРИЕМНИКЕ?
Веселый, прыщавый, нескладно длинный татарин Муса. Он любил всех разыгрывать, но когда ярился мог и зарезать, становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой Крым, мазанки в отдалении моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике.
Балбек был ногаец. Где находится его родина, Ногайя, никто из нас, да и сам Балбек не знал...
Лида Гросс , попавшая в мальчиковую спальню потому, что она была одна девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила нас называть ее по-русски: Гроссова... О своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели им уезжать... В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина".
2. ВЫЯСНИМ, КАК КУЗЬМЕНЫШИ ОТНОСЯТСЯ К ДЕТЯМ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ?
Первый из них - описание зловещего вагона : "Он поднял голову и увидел глаза, одни сперва глаза: то ли мальчик, то ли девочка. Черные блестящие глаза, а потом рот, язык и губы. Этот рот тянулся наружу и произносил лишь один страшный звук: "Хи". Колька удивился и показал ладонь с сизоватыми твердыми ягодами: "Это?". Ведь ясно же было, что его просили. А о чем просить, если кроме ягод ничего не было. Хи! Хи! - закричал голос, и вдруг ожило деревянное нутро вагона. В решетку впились детские руки, другие глаза, другие рты, они менялись, будто отталкивали друг друга и вместе с тем нарастал странный гул голосов, словно забурчало в утробе у слона. Лишь потом мальчик понял, что это увезенные из родных мест дети просили воды. Не хлеба.
Потом обращаем внимание на эпизоды взрыва в детдоме , гибели фельдшерицы Веры, переселение тети Зины в этот "рай". Размышления над этими эпизодами позволяют заметить, что взрослые и дети разноречиво оценивают события, связанные с переселением чеченцев.
Наивная беседа Кузьменышей приближает читателя к правде.
«- Фашисты. Сравнили. Какие они фашисты!
- А кто? Слыхал, как боец про них кричал? Все они, говорит, изменники Родины! Всех Сталин к стенке велел!
- А пацан, ну, который за окном. Он тоже изменник? -спросил Колька, Сашка не ответил.»
РАБОТА НАД ЭПИЗОДОМ
Гл 32
ЗАЧИТЫВАЕМ ДИАЛОГ "ШТАТСКОГО" С ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТПРИЕМНИКА
КАК КОЛЬКА ОТНОСИТСЯ К ЧЕЧЕНСКОМУ МАЛЬЧИКУ?
Давайте, пожалуйства, список.
Список детей? - спросила заведующая. Он протянул руку, не пытаясь ничего объяснять, и Ольга Христофоровна подала ему листок. Он быстро, мельком взглянул, поинтересовался:
А этот Муса? Он что, татарин?
Да, - сказала Ольга Христофоровна. - Он сейчас тяжело болен.
Откуда? - спросил штатский, пропуская мимо ушей про болезнь.
Не из Крыма, случайно.
Кажется, из Казани. - ответила заведующая.
Кажется... А Гросс? Немка?
Не знаю. Какое это имеет значение? Я тоже немка!
Вот я и говорю. Понабирают тут.
Мы их и не набираем. Мы их принимаем.
Надо знать, кого принимаете! - чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах. Но почему-то взрослые вздрогнули. И только Ольга Христофоровна, хотя видно было, что она больна и ей тяжело говорить.
- Мы принимаем детей. Только детей, - отвечала она. Взяла список и будто погладила его рукой.
Дети любой национальности имеют одинаковое право жить в Российском государстве на равных условиях. Она, будучи физически слабым человеком, пытается отважно защитить эти права детей.
ПРОСМОТР ФРАГМЕНТА
К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕТ КОЛЬКА В МОНОЛОГЕ?
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ
Одиннадцатилетний Колька несмотря на пережитый ужас не озверел, а пытался понять, почему чеченцы убили его брата. Он размышлял как истинный интернационалис т: "Едут чеченцев убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его убивать. Я только в глаза посмотрел бы, зверь он или человек? Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое увидел, то спросил бы его, зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему что сделали? Я бы сказал: "Слушай чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем? Нас привезли сюда жить, то мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь видишь, как выходит. Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать. Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы в колонии рядышком живем".
Выводы учителя: Главная мысль автора – вина за истребление и выселение народов лежит на Сталине и его окружении. «Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем» – слова Кольки – слова самого автора. Ведь жизнь человеческая – бесценна! Никто никому не должен мешать.ВЫВОД.ЗАПИСЬ В ТЕТРАДЬ..
«Нет вины одного народа перед другим, как нет хороших и плохих народов».
«Плохих народов не бывает, бывают плохие люди»
«Дети всегда и неизменно добрее и интернациональное, чем взрослые».
«Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живы?»
Дети всегда и неизменно добрее и интернациональное, чем взрослые».
Это призыв к Правде, Добру, Справедливости. "Моя повесть, - дополняет автор, - есть факт сопротивления безжалостности, бесчеловечности".
VIII/ Итоги урока-конференции.
В чем спасение от войн и межнациональных конфликтов?
Словарь Ожегова
Гуманизм - человечность в общ деятельности,в отношении к людям.
Интернационализм- политика равенства и солидарности всех народов.независимо от национальной принадлежности
Братство народов- содружество (взаимная дружба, единение)
Толерантность - (лат «терпение») – терпимость к чужим мнениям, верованиям,
поведению
Дети войны оказались мудрее взрослых, щедрее душой, дальновиднее Одиннадцатилетний Колька несмотря на пережитый ужас не озверел, а пытался понять, почему чеченцы убили его брата. Он размышлял как истинный интернационалист.
Что значит «быть толерантным» и милосердным?
Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. (Проявить милосердие)
«Мы разные в этом наше богатство, мы вместе- это наша сила»
Учитель: В горькой повести А. Приставкина есть нечто целебное – от встречи с добрыми, человечными людьми. Зло не всесильно, оно не способно сломить всех. Сострадание живо, несмотря на десятилетия сталинщины, когда оно вытравлялось. И пусть подобное никогда больше не повторится в нашей жизни. -
Писателю был задан вопрос: как бы он определил основную мысль повести «Ночевала тучка золотая»?
Ответ писателя: «Она взывает к милосердию в людях. Обращена она и к сегодняшнему читателю и созвучна сегодняшним нашим требованиям, нет ничего более важного, чем сберечь мир от самоуничтожения. Знаете – когда начинается лесной пожар, в первую очередь погибнет подросток. Мы – обгоревший подросток, остатки того поколения. Война бьет по самому больному и чувствительному месту. Во имя этого тоже писалась книга – как память о том, то было и как было, во имя того, чтобы это не повторилось» (см. «Неделя» №27 1987г)
8. Домашнее задание. Написать сочинение, в котором нужно рассмотреть и проанализировать одну из тем, поднятых в повести А. Приставкиным.
«Плохих народов не бывает, бывают плохие люди»
Приложение 1
Родился Анатолий Игнатьевич Приставкин 17 октября 1931 года в городе Люберцы Московской области. Когда началась война, Приставкину шёл 10-й год. Отец ушёл на фронт, а мать вскоре умерла от туберкулёза. Приставкин попадает в детский дом, и всё, что доставалось бездомным детям во время войны, в полной мере выпало и на его долю.
С детства Анатолия Приставкина носило по разным частям огромной страны – Подмосковье, Сибирь, Северный Кавказ, куда в 1944 году, в момент депортации чеченцев, направили для заселения территорий, ставших пустыми, московских беспризорников. Всю жизнь Анатолий Игнатьевич хранил предмет, оставшийся с тех времен, - финку, сделанную для детской руки. О том времени Приставкин через некоторое время скажет: “В самой середке войны тыл представлял собой фантастическую картину: военные и беженцы, спекулянты и инвалиды, женщины и подростки, выстоявшие по нескольку смен у станков, беспризорные и жулики… Мы были детьми войны и в этой пестрой среде чувствовали себя как мальки в воде. Мы всё умели, всё понимали и, в общем-то, ничего не боялись, особенно когда нас было много”.
К писательскому ремеслу Приставкина подтолкнул случай…
Детей почти месяц везли в вагонах товарняка, в день выдавали по кусочку хлеба. В Челябинске, куда их привезли, на станции находилась столовая, которую осаждали беженцы, и ребята не могли пробиться через эту толпу взрослых. Тогда их воспитатель Николай Петрович стал кричать людям, чтобы они пропустили детей. И произошло чудо: они прошли сквозь толпу по освободившемуся пространству, как по коридору, - дети не видели лиц, просто чувствовали, что защищены, что их никто не раздавит. Эта тема легла в основу первого рассказа Анатолия Приставкина – “Человеческий коридор”. Впоследствии этот символ “человеческого коридора” сопутствовал писателю на протяжении всей жизни, и он не переставал идти по нему, ощущая поддержку людей, готовых вывести его в будущее.
Приложение 2
История публикации повести.
В начале 1980-х годов Приставкин написал повесть “Ночевала тучка золотая”. Автор попытался откровенно сказать о том, что пережил сам и что больно обожгло его нервы: мир не достоин существования, если он убивает детей.
А. Приставкин вспоминал о своей повести: “Повесть моя долго лежала в… бельевом шкафу. Я боялся её вытаскивать. Ты поднял вопросы, которые трогать нельзя, говорили мне друзья. Так получилось, что сперва я предал “Тучку…” гласности таким образом: собрал друзей и предложил послушать две-три главы. Огорчение, кислое согласие. Потом все молча разошлись. Но в конце кто-то сказал: “Зачем ты это написал? Спрячь”. Потом стали перепечатывать, копировать. Значит, она людям нужна”.
После первого коллективного чтения повести в кругу друзей начались странные вещи: сначала к Приставкину зашел товарищ и попросил рукопись, чтобы почитать дома, другой знакомый попросил для сына, третий – для коллеги.
Ко времени публикации в журнале “Знамя” повесть прочитали как минимум 500 человек. Однажды домой к Анатолию Игнатьевичу приехал совершенно незнакомый человек из Ленинграда и сказал, что по просьбе своих товарищей должен обязательно прочесть повесть, чтобы рассказать о ней у себя дома.
Повесть напечатал в 1987 году Георгий Бакланов – писатель-фронтовик, незадолго перед тем назначенный главным редактором журнала “Знамя”.
Читатели были удивлены, взволнованы, ошеломлены…О детских домах писали не раз и по-разному. Но так, как написал Приставкин, не писал никто. Его “детдомовские” произведения – это картины страшной, бесчеловечной действительности.