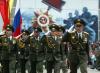ЧААДАЕВУ
С МОРСКОГО БЕРЕГА ТАВРИДЫ
Примечания
- Холодные сомненья - мнение И. М. Муравьева-Апостола о том, что храм Дианы находился не у мыса Георгиевского монастыря. Об этом он писал в своем «Путешествии по Тавриде» (1823 г.), которое Пушкин прочитал в 1824 г.
ЧААДАЕВУ. К чему холодные сомненья?. Напечатано в «Северных цветах» на 1826 год в составе «Отрывка из письма к Д.» (см. т. VI), а перед тем в «Северной пчеле», 1825 г., № 12, 27 января.
Пушкин печатал послание под 1820 г., изобразив в «Отрывке из письма к Д.» дело так, как будто бы написал эти стихи в Крыму на развалинах храма Дианы. Это опровергается положением черновика в тетрадях Пушкина и содержанием.
Провозвестница Тавриды - Ифигения. Стихотворение основано на мифе о бегстве Ифигении с братом Орестом, осужденным на принесение в жертву Диане.
«Святое дружбы торжество» - соревнование друзей Ореста и Пилада в самопожертвовании.
«Чедаев, помнишь ли былое?» - См. послание к Чаадаеву 1818 г. «Любви, надежды, тихой славы» (т. I, стр. 307).
Первое послание А.С. Пушкина «К Чаадаеву» выражает, в первую очередь, понимание свободы в русле идеи декабристов. Здесь речь также идет о политической свободе, о крушении власти, нарушающей законы (И на обломках самовластья...). А.С. Пушкин представляет себя и друзей-декабристов борцами за свободу всего русского народа против самовластья и тирании:
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Идеи этого стихотворения позднее были развиты в «Борисе Годунове», «Медном всаднике» и «Капитанской дочке». Проблема свободы и власти постоянно волновала Пушкина по той причине, что это проблема глобального характера. («Пока свободою горим», «На обломках самовластья»)
К весне 1820 года знакомство А.С. Пушкина со столь опасными людьми, как Н.Тургенев, М.Орлов, Н.Муравьёв, Ф.Глинка, К.Рылеев, П.Чаадаев, его стихи «Вольность», «Деревня» обернулись доносами В.Н. Карамзина. В книге «Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками» приводятся доносы В.Н. Карамзина В.П. Кочубею и дневниковые записи, в частности, к 9 мая 1820 года относится такая запись: «сегодня, сейчас, слышал я от А.Ф. Лабзина следующую катрен, якобы сочиненную также Пушкиным: «Православный государь! // Наших бед виновник. // Полно, братцы!.. Он не царь - // Много, что полковник» Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. - М., 1988. - С. 302.. Все это обернулось угрозой ссылки. Друзья А.С. Пушкина и, в том числе П.Я. Чаадаев, смогли облегчить его участь - добились отмены ссылки. В 1821 году написано второе послание «Чаадаеву (В стране, где я забыл тревоги прежних лет…)», проникнутое чувством печали и тоски:
Но дружбы нет со мной: печальный, вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края.
Превыше самого дорогого - поэтического труда - автор ставит друга:
Ни музы, ни труды, ни радости досуга -
Ничто не заменит единственного друга.
При этом воспоминания о друге дают поэту силу и понимание того, что человек, которому предстоит великое поприще, должен презирать клевету и быть выше своих гонителей:
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу возвратил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял её советом иль укором;
Твой жар воспламенял высокую любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Умел я презирать, умея ненавидеть.
А.С. Пушкин и П.Я.Чаадаев - друзья, но друзья в высшем значении этого слова. И близ памятника легендарной дружбе суть взаимоотношений с П.Я. Чаадаевым осознается поэтом во всей полноте. В послании запечатлено своеобразное подведение поэтом жизненных итогов, в связи с чем строка “Пишу я наши имена” обретает символическое значение. Для А.С. Пушкина написание своего имени рядом с именем П.Я. Чаадаева означает выбор дальнейшего пути духовных исканий. Этот путь в сознании поэта теперь прочно связывается с именем и идеями его друга. Здесь естественно вспомнить строки из писем П.Я. Чаадаева поэту: “...мы должны были идти об руку, и из этого получилось бы нечто полезное и для нас и для других”. В другом письме читаем: “Мое самое ревностное желание, друг мой, - видеть вас посвященным в тайну века <...> Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей”. В конце письма П.Я. Чаадаев советует другу: “Обратитесь с призывом к небу, - оно откликнется”. Диапазон сюжетов, затрагиваемых поэтом, по-прежнему остается достаточно широким в творчестве 1823-1826 годов. В пушкинской лирике этих лет запечатлелся все возрастающий интерес к более духовным философским и даже религиозным - вопросам, таким, как противоборствующие доводы веры и знания, вероятность или невероятность сохранения индивидуального самосознания и памяти после смерти, роль судьбы, рока и провидения в истории, взаимосвязь религии и искусства. Среди прочих шедевров поэзии А.С. Пушкина, созданных в эти годы, значительное место занимают стихотворные послания друзьям и собратьям по перу. Большинство из них составляет часть собственно переписки и отправлялось вместе с письмом адресату. Исключением является послание «Чаадаеву» 1824 года («К чему холодные сомненья?..»), одно из самых утонченных и философски глубоких стихотворений А.С. Пушкина.
Краткое посещение Крыма в 1820 году дало настолько сильный толчок творческому дарованию поэта, что его отголоски слышатся в поэтическом наследии А.С. Пушкина и спустя много лет. В 1824 году, уже в Михайловском, то есть в пространственном и временном отдалении от путешествия по Тавриде, ему удается вновь, на этот раз в художественном воображении, «посетить» тот же «край прелестный». Под впечатлением пережитых воспоминаний и родилось последнее поэтическое послание другу «Чаадаеву (К чему холодные сомненья…)»:
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.
..............................
Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умилении вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.
Главная тема этого стихотворения - миф и связанный с ним монумент; его доминирующий тон - душевное спокойствие и раздумье. А.С. Пушкин записывает, точнее, зашифровывает наиболее глубокие, духовные слои своих взаимоотношений с П.Я. Чаадаевым.
Если сравнить форму всех трех пушкинских посланий к П.Я.Чаадаеву, то обнаружится их довольно-таки очевидная схожесть на чисто лексическом уровне. Однако это внешнее сходство маскирует существенный контраст посланий, особенно первого и последнего. Они, при более внимательном анализе, оказываются во всех отношениях диаметрально противоположными друг другу, более того, последнее как бы пункт за пунктом опровергает первое. Послание «К Чаадаеву» (1818) пронизано политико-патриотической лексикой (“Россия”, “отчизна”, “самовластье”, “свобода”, “надежда”), которая придает стихотворению политический пафос, декларирует приверженность поэта освободительной цели, наполняет предвкушением коренных преобразований и последующей благодарности соотечественников. Наоборот, послание 1824 года насыщено мифологическими и религиозными понятиями (“храм”, “боги”, “жертвоприношение”, “провозвестница”, “божество”). Они определяют духовный пафос произведения, передают состояние душевной тишины и “вдохновенного умиленья”, обращенность к памяти о былом. В итоге эпитафия себе и другу П.Я. Чаадаеву как бы пишется заново, отменяя прежнюю (“На камне, дружбой освященном, // Пишу я наши имена”). На первый план выдвигается обновление сердца и души каждого. Стихотворение 1824 года откликается уже не на политический зов пожертвовать своей жизнью, да и жизнью целого поколения, ради отечества, а на мифические голоса отдаленного прошлого, тем более что они созвучны недавним событиям.
А.С. Пушкин, по-видимому, сразу же готовил послание 1824 года не для отправки адресату, а для печати. И опубликовал его в течение пяти лет целых четыре раза, причем дважды - в составе «Отрывка из письма к Д.», который, в жанре описательного очерка, повествует о поездке А.С. Пушкина по Крыму в 1820 году.
Особое место занимает четверостишье «К портрету Чаадаева»:
Он вышней волею небес
Рождён в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Перикла,
А здесь он - офицер гусарской.
Это своеобразный ключ к пониманию образа П.Я. Чаадаева в романе «Евгений Онегин». Всем известно, что сначала за П.Я. Чаадаевым следовала слава лихого гусара и Петербургского денди, а уже затем крамольного философа. В романе «Евгений Онегин» автор создал типичный образ молодого дворянина-интеллигента, вольнолюбиво настроенного, который критически относился к светской жизни, однако не был членом тайных обществ. Именно в начале XIX века среднее дворянство находилось на вершине своего развития, было тем общественным слоем, в котором выразился «прогресс русского общества». С главным героем романа Евгением Онегиным мы знакомимся уже в первой главе, и автор представляет его по-разному: «наследник всех своих родных», «добрый мой приятель», «второй Чаадаев». Герой «родился на брегах Невы», его воспитание и образование в детстве и юности типичны для дворян того времени:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
Не случайно А.С. Пушкин сравнивает Евгения Онегина с П.Я. Чаадаевым, которого многие считали прототипом главного героя. П.Я. Чаадаев был человеком необыкновенным, он был известен своим свободолюбием и независимостью суждений, честностью, утонченным аристократизмом и щегольством в одежде. Евгений Онегин так же, как П.Я. Чаадаев, выделяется независимостью. Оппозиционность в поведении, равнодушие к чинам и служебной карьере, культ праздности, изящного наслаждения и личной независимости, политическое вольнодумство - вот общие черты поколения 1820-х годов. Так же, как П.Я. Чаадаев, Онегин понял и оценил свет: «...Рано чувства в нем остыли; ему наскучил света шум...» «Светский лев», далекий от идеалов А.С. Пушкина, вырастает в серьезную личность, достойную стать рядом с автором, устанавливая единство их взглядов:
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Не подражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Характер героя в конце первой главы оказался совсем не таким, каким был в начале романа. Таким образом, Евгений Онегин уже с первой главы показан в динамике, в развитии, что связано с «ростом» самого автора. Так, получив типичное для своего времени поверхностное образование («мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь»), Евгений Онегин затем много читает, анализируя прочитанное. От светского полуневежества и верхоглядства герой серьезно погружается в мир знаний. Он так же, как и автор, стремится «в просвещении стать с веком наравне». Это было время подъема русского самосознания, пробужденного войной 1812 года. В обществе возрастает интерес к писателям Англии, Франции и Германии. Поэтому не случайно не только Евгений Онегин, но и Владимир Ленский отличаются начитанностью, образованностью, стремлением к решению философских вопросов, богатым внутренним миром. Молодые герои романа являются представителями передовой образованной дворянской интеллигенции. Не зря автор описывает проблемы, которые обсуждают Евгений Онегин и Владимир Ленский. Но в книгах герой не нашел ответов на мучившие его вопросы в силу субъективности и предвзятости позиций авторов:
Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет.
А. С. Пушкину близок критический взгляд героя на литературу и на жизнь в целом. Высокие требования, предъявляемые Евгением Онегиным ко всему и всем, - признак глубокого, неравнодушного ума. Именно «резкий, охлажденный ум» героя позволил ему критически оценить людей, общество и жизнь: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей...». Таким образом, в Евгении Онегине А.С. Пушкин первым из русских писателей изобразил тот тип образованного дворянина-интеллигента, который сложился в 20-е годы XIX века и в котором «выразился прогресс русского общества».
ДЖЕРАЛЬД МАЙКЛЬСОН
ПУШКИН И ЧААДАЕВ: ВСТРЕЧА В КРЫМУ
О дружбе и духовном общении Пушкина и Чаадаева уже существует обширная литература на русском и на европейских языках. Так, весьма полно освещены политические разногласия поэта и философа. Но мне хотелось бы, вникнув в последнее послание Пушкина Чаадаеву “К чему холодные сомненья...” (1824), заново подойти к пониманию этой удивительно устойчивой, двадцатилетней дружбы.
В эволюции взаимоотношений Пушкина и Чаадаева, начиная со времени их знакомства в Царском Селе в 1816 году и кончая своеобразной формой как бы косвенного обмена письмами в последние месяцы жизни поэта (а именно, взаимными отзывами друзей на недавно опубликованные произведения - “Капитанскую дочку” Пушкина и первое “Философическое письмо” Чаадаева), можно выделить несколько фаз; заключительная же глава истории их дружбы - это продолжавшийся в течение двадцати лет “разговор” Чаадаева с уже покойным поэтом.
Период с мая 1820 по конец 1822 года характеризуется крутыми изменениями жизненных обстоятельств Пушкина и Чаадаева: оба они попадают в опалу и покидают столицу - один на одиннадцать лет, другой на всю жизнь. Однако, несмотря на географическое расстояние, разделяющее друзей, они остаются духовно близки, и на протяжении шести лет им обоим опорой служат воспоминания о прежних встречах и беседах, о времени первого пушкинского послания “Любви, надежды, тихой славы...”.
Путешествуя в период первой ссылки по южным окраинам Российской империи, Пушкин переживает мощное пробуждение творческих сил. Он сталкивается с необыкновенной красотой природы Крыма, с пестротой национальностей и вероисповеданий, с остатками древних культур. К тому же крымская земля навевает и литературные ассоциации (Байрон, Мицкевич). Очевидно, что Пушкину это творческое воскрешение было предопределено и генетически и провиденциально.
Одним из важнейших импульсов, стимулирующих художественное сердцебиение поэта первые полтора года южной ссылки, стала память об оскорблении его личного достоинства. Горькие воспоминания о тех последних месяцах, что он провел в александровском Петербурге, перемежались с чувством глубокой благодарности Чаадаеву, который спас поэта от участи намного худшей, чем нынешняя 1 . Этот узел противоречивых чувств выражен во втором послании Чаадаеву “В стране, где я забыл тревоги прежних лет...” (1821). Задуманное, очевидно, как послание в буквальном смысле, то есть как акт частной переписки, оно может быть прочитано в качестве своего рода эпистолярной прозы. Нюансы и скрытые намеки этого послания Чаадаев мог легко разгадать, да и подготовленному современному читателю все в нем должно было быть достаточно ясно. Стихотворение насыщено сведениями о перипетиях их дружбы в период 1816 - 1821 годов. Дружба с Чаадаевым для Пушкина в то время предполагала, прежде всего, благодарность, но также и готовность поэта прислушиваться к мнениям более опытного человека и охотно усваивать его мысли, несмотря на их новизну и парадоксальность.
Критическая стадия в эволюции дружбы Чаадаева и Пушкина - это период с 1822 по осень 1826 годов: оба они оторваны от российской общественности как таковой, оба мечтают о встрече и возможности продолжать прежние регулярные беседы. Пушкин-поэт и Чаадаев-философ заметно развиваются как мыслители и литераторы. Путешествие Чаадаева по Европе, его размышления о мировой истории и современной философии определяют выводы, сформулированные им в конце 1820-х - начале 1830-х годов в знаменитых “Философических письмах”. Пушкин, в свою очередь, изживает свои столичные радикальные политические страсти, вольтеровское вольнодумство, а также увлечение байроновским романтизмом и обретает более уравновешенный и реалистический образ мыслей, определивший его мировоззрение и творчество до конца дней.
Хотя диапазон сюжетов, затрагиваемых поэтом, по-прежнему остается достаточно широким, те “вольнолюбивые надежды”, которые он питал в предшествующие годы (1816 - 1821), а также какие бы то ни было политические платформы (начиная со стихотворения 1823 года “Свободы сеятель пустынный...”), в творчестве 1823 - 1826 годов совершенно отсутствуют. В пушкинской лирике этих лет запечатлелся все возрастающий интерес к более духовным - философским и даже религиозным - вопросам, таким, как противоборствующие доводы веры и знания, вероятность или невероятность сохранения индивидуального самосознания и памяти после смерти, роль судьбы (или рока) и провидения в истории, взаимосвязь религии и искусства.
Среди прочих шедевров “малой” и “большой” поэзии Пушкина, созданных в эти годы, значительное место занимают стихотворные послания друзьям и собратьям по перу. Большинство из них составляет часть собственно переписки и отправлялось вместе с письмом адресату. Исключением является послание “Чаадаеву” 1824 года (“К чему холодные сомненья?..”), одно из самых утонченных и философски глубоких стихотворений Пушкина.
Краткое посещение Крыма в 1820 году дало настолько сильный толчок творческому дарованию поэта, что его отголоски слышатся в поэтическом наследии Пушкина и спустя много лет. В 1824 году, уже в Михайловском, то есть в пространственном и временном отдалении от путешествия по Тавриде, ему удается вновь, на этот раз в художественном воображении, “посетить” тот же “край прелестный”. Под впечатлением пережитых воспоминаний и родилось последнее поэтическое послание другу - самое загадочное из “крымских” стихов Пушкина. Вот оно:
ЧААДАЕВУ
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
..............................
Чедаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.Главная тема этого стихотворения - миф и связанный с ним монумент; его доминирующий тон - душевное спокойствие и раздумье. Пушкин записывает, точнее, зашифровывает наиболее глубокие, духовные слои своих взаимоотношений с Чаадаевым.
Если сравнить форму всех трех пушкинских посланий к Чаадаеву, то обнаружится их довольно-таки очевидная схожесть на чисто лексическом уровне. Однако это внешнее сходство маскирует существенный контраст посланий, особенно первого и последнего. Они, при более внимательном анализе, оказываются во всех отношениях диаметрально противоположными друг другу, более того, последнее как бы пункт за пунктом опровергает первое.
Послание “К Чаадаеву” (1818) пронизано политико-патриотической лексикой (“Россия”, “отчизна”, “самовластье”, “свобода”, “надежда”), которая придает стихотворению революционный пафос, декларирует приверженность поэта освободительной цели, наполняет предвкушением коренных преобразований и последующей благодарности соотечественников. Наоборот, послание 1824 года насыщено мифологическими и религиозными понятиями (“храм”, “боги”, “жертвоприношение”, “провозвестница”, “божество”). Они определяют духовный пафос произведения, передают состояние душевной тишины и “вдохновенного умиленья”, обращенность к памяти о былом. В итоге эпитафия себе и другу Чаадаеву как бы пишется заново, отменяя прежнюю (“На камне, дружбой освященном, / Пишу я наши имена”). На первый план выдвигается обновление сердца и души каждого из протагонистов. Стихотворение 1824 года откликается уже не на политический зов пожертвовать своей жизнью, да и жизнью целого поколения, ради отечества, а на мифические голоса отдаленного прошлого, тем более что они созвучны недавним событиям.
Пушкин, по-видимому, сразу же готовил послание 1824 года не для отправки адресату, а для печати. И опубликовал его в течение пяти лет целых четыре раза, причем дважды - в составе “Отрывка из письма к Д.”, который, в жанре описательного очерка, повествует о поездке Пушкина по Крыму в 1820 году (и этим же годом помечен, хотя писался в 1824-м).
Решающим моментом встречи с Крымом, воскрешенной воображением поэта, становится воспоминание о Георгиевском монастыре (“Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление”), посещение которого в сознании автора обретает значение своего рода паломничества. Особенно поразили Пушкина показанные ему “баснословные (то есть легендарные. - Дж. М. ) развалины храма Дианы” близ монастыря. Судя по всему, поэт, вопреки любым “холодным сомненьям” рассудочного и скептического исследователя 2 , поверил легенде. У автора очерка своя мерка в вопросе о ее исторической достоверности: миф о храме Дианы истинен для Пушкина потому, что созерцание древних развалин воскресило в поэте божественный дар творческого вдохновения. Он пишет: “Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами”. Как бы в доказательство этому здесь же поэт вставляет в свой очерк текст последнего послания Чаадаеву...
Слова “Я верю...” в начале второй строки послания, отвечая на вопрос первой строки: “К чему холодные сомненья?” - звучат утверждением веры (даже в присутствии сомнений). “Холодные сомненья” отвергаются как слишком рациональные, лишенные поэтического огня, тепла и света, заключенных в творческой позиции. Со словами “я верю” скреплена не только оставшаяся часть строки (“...здесь был грозный храм...”), но и весь остальной текст стихотворения, в котором просматривается поэтическое кредо поэта. Он готов поверить не только тому, что здесь, в Крыму, на мысе Фиолент, стоял храм Артемиды, но и древнему мифу об Оресте, Пиладе и Ифигении, связанному с этим храмом.
На первый взгляд может показаться, что слова: “На сих развалинах свершилось / Святое дружбы торжество. / И душ великих божество / Своим созданьем возгордилось” - это всего лишь завершение пушкинского пересказа предания об Оресте и Пиладе и что, соответственно, переход от древности к современности в стихотворении совершается после строки отточий, следующей за этими словами. Однако по целому ряду признаков, таких, как несоотносимость упоминания о развалинах с античным хронотопом (храм ведь был разрушен не в те времена, когда Орест и Пилад посещали его, а уже в Новое время) или несоответствие понятия о божестве-создателе с античным мировоззрением вообще, - можно заключить, что смена эпох в стихотворении происходит не после третьего четверостишия, а перед ним. То есть строки, повествующие о торжестве дружбы, относятся уже не к Оресту и Пиладу, а к самим Чаадаеву и Пушкину. “На сих развалинах”, на мысе Фиолент, около Георгиевского монастыря в 1820 году, и особенно спустя четыре года, в Михайловском, в воспоминаниях поэта, Чаадаев как бы воссоединяется с ним, как одна великая душа с другой, и духовная слиянность поэта и философа уподобляется дружескому союзу античных героев, ставшему символом самоотверженной дружбы вообще.
Таким образом, можно говорить о символической встрече Пушкина и Чаадаева в Крыму, где в действительности Пушкин побывал всего однажды, а Чаадаев - ни разу в жизни. Момент этой встречи и запечатлен в послании 1824 года.
Строки “На сих развалинах свершилось / Святое дружбы торжество” свидетельствуют не только о факте (или, может быть, пророчестве), что оба друга спасены от возможной катастрофы, но воплощают некоторые более сокровенные аспекты их дружбы. Воображаемая встреча произошла на том месте, где соседствуют два храма: один - православный, другой - языческий. Православный как бы вырастает на развалинах языческого храма, сменяет его. Жестокое повеление языческих богов, зовущее к мщению и крови, к человеческим жертвоприношениям, как в древнем греческом мифе, так и в недавней судьбе Пушкина и Чаадаева преодолевается силой дружбы, подкрепленной верностью и любовью. Вот что делает торжество их дружбы святым, вот почему души их - “великие”, вот почему божество так возгордилось своим созданьем.
Попытаемся понять, что подразумевает Пушкин под “божеством”. Кстати, и в пушкинском автографе, и в его прижизненных и всех остальных изданиях этого текста слово “божество” пишется с маленькой буквы. Но в написании этого слова вообще, а также слова “бог” (например, в переписке) в смысле единого, христианского Бога Пушкин был непоследователен. Строчки “И душ великих божество / Своим созданьем возгордилось” просто анахроничны и бессмысленны, если предположить, что под “божеством” имеется в виду Аполлон или какой бы то ни было другой языческий бог, учитывая тем более, что “души великие” названы его “созданьем”. Ведь в классической мифологии античные боги, хотя и сильно влияют на судьбы смертных, но вовсе не выступают создателями людей. Видимо, слово “божество” здесь должно соотноситься с Богом, как и во многих других пушкинских текстах. Например, в пушкинских “Заметках по русской истории XVIII века” о русском духовенстве сказано, что оно “всегда было посредником между народом и Государем, как между человеком и божеством”; в стихотворении “Ее глаза” (1828), посвященном Анне Олениной, божеством назван младенец Иисус: “Потупит их с улыбкой Леля - / В них скромных граций торжество; / Поднимет - ангел Рафаэля / Так созерцает божество”; в “Мирской власти” (1836) читаем: “Когда великое свершалось торжество / И в муках на кресте кончалось божество...” Таким образом, “божество” - единый, христианский Бог, во чью славу был построен православный Георгиевский монастырь неподалеку от развалин древнегреческого языческого храма Дианы (Артемиды). Этот Бог, это Божество, проповедуемое Чаадаевым (в частности - и в его переписке с поэтом), под влиянием философа все более и более признается Пушкиным как источник поэтического дара, путеводитель вдохновения, создатель его “грациозного гения”, говоря словами Чаадаева из “Апологии сумасшедшего”. Такое “божество”, естественно, могло возгордиться “своим созданьем” (ср.: “И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма”. - Быт. 1: 31), тем более что “душам великим” удалось отбиться от “крови жаждущих богов”.
Ключ к пониманию последнего поэтического послания Пушкина Чаадаеву следует искать, как мне кажется, в последних трех строках стихотворения: “И, в умиленье вдохновенном, / На камне, дружбой освященном, / Пишу я наши имена”. Интересно, что в творчестве Пушкина слово “умиленье” почти всегда употребляется вместе со словом “вдохновенье” (например, в стихотворении каменноостровского цикла 1836 года “Из Пиндемонти”: “Дивясь божественным природы красотам / И пред созданьями искусств и вдохновенья / Трепеща радостно в восторгах умиленья, / - Вот счастье! вот права...”). Именно вдохновенное умиленье побуждает поэта “на камне, дружбой освященном”, написать “имена”, значение каковой надписи, как единственно уместной, нам еще предстоит осмыслить.
Пушкин и Чаадаев - друзья, но друзья в высшем значении этого слова. И близ памятника легендарной дружбе суть взаимоотношений с Чаадаевым осознается поэтом во всей полноте. В послании запечатлено своеобразное подведение поэтом жизненных итогов, в связи с чем строка “Пишу я наши имена” обретает символическое значение. Для Пушкина написание своего имени рядом с именем Чаадаева означает выбор дальнейшего пути духовных исканий. Этот путь в сознании поэта теперь прочно связывается с именем и идеями его друга. Здесь естественно вспомнить строки из писем Чаадаева поэту: “...мы должны были идти об руку, и из этого получилось бы нечто полезное и для нас и для других”. В другом письме читаем: “Мое самое ревностное желание, друг мой, - видеть вас посвященным в тайну века <...> Если у вас не хватает терпения следить за всем, что творится на свете, углубитесь в самого себя и в своем внутреннем мире найдите свет, который безусловно кроется во всех душах, подобных вашей”. В конце письма Чаадаев советует другу: “Обратитесь с призывом к небу, - оно откликнется”.
Имена Пушкина и Чаадаева на древнем камне связали прошлое с настоящим, а настоящее с будущим. Возможно, что здесь, у развалин храма, поэт, говоря словами чаадаевского письма, постигал “тайну времен”. Творение рук человеческих рано или поздно превращается в груду развалин, вечно - лишь творение духа, оживотворяющее даже развалины. Таким духовным творением явилась некогда самоотверженная дружба Ореста и Пилада, а теперь становится и дружба между Чаадаевым и Пушкиным. И если легендарная дружба предполагает готовность отдать жизнь за друга, то во взаимоотношениях поэта и философа речь идет не только о спасении жизни, но, что особенно важно, о спасении души.
Можно предположить, что и значение слова “камень” простирается гораздо дальше своего буквального смысла (камни развалин, памятный камень в честь дружбы) - в область евангельского словоупотребления. (Ср.: “...на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” - Мф. 16: 18.) “Камень” в послании соотносится также со скрижалью в ветхозаветном смысле, то есть с каменной доской и начертанным на ней текстом заповедей. Интересно, что у Пушкина нет почти ни одного стихотворения со словом “скрижаль”, так или иначе не связанного с Чаадаевым, точнее, со жгучими вопросами, которые они обсуждали, о которых спорили в течение продолжительных мысленных диалогов: наследие Наполеона и его войны с Россией (к примеру, “Зачем ты послан был и кто тебя послал?..”, 1824), Россия и Европа, античность и христианская цивилизация. Чаадаев советовал Пушкину перестать гоняться за мимолетной славой и написать что-нибудь о “великом перевороте в вещах”, наблюдаемом в их время. Философ замечал, что “происходит нечто необычное в недрах морального мира”, а именно, “всеобщее столкновение всех начал человеческой природы”, и рекомендовал Пушкину эту тему как “богатую пищу” для поэзии. По его глубокому убеждению, России нужен не свой Гомер или Шекспир, а русский Дант, писатель - “посланник Божий”. В начале 1830-х годов, с точки зрения Чаадаева, Пушкин приблизился к тому идеалу, который был поставлен перед ним другом. Мы знаем, что Чаадаев одобрил пушкинские стихотворения 1831 года “Клеветникам России” и “Бородинскую годовщину”, а в 1836 году был в восторге от “Капитанской дочки”. Однако мы можем только догадываться, что он думал о “Борисе Годунове”, о “Медном всаднике”, о каменноостровском цикле, о медитативной лирике 1836 года. Стал ли Пушкин, с точки зрения Чаадаева, русским Дантом? Возможный ответ на этот вопрос, мне кажется, проглядывает в тех “письменах”, которые зашифрованы в последнем послании Пушкина Чаадаеву - “на камне, дружбой освященном”.
Канзасский университет (США).
1 “В 1820 г. Чаадаев принимал участие в хлопотах о смягчении участи Пушкина, в результате которых ссылка в Сибирь или в Соловецкий монастырь была заменена Пушкину переводом на службу в Бессарабию” (Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. 2-е доп. и перераб. изд. Л. 1989, стр. 483).
Л.Суворова
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ
А.С.ПУШКИНА "К ЧААДАЕВУ",
"К ЧЕМУ ХОЛОДНЫЕ СОМНЕНЬЯ?"
П.Я.Чаадаев. Рисунок А.С.Пушкина
Что объединяет эти тексты, кроме автора и адресата? Чем отличается содержание посланий? Какими событиями е жизни Пушкина это вызвано? Как каждое стихотворение раскрывает состояние души поэта, его устремления, мысли и чувства? Чтобы полно ответить на эти вопросы, нужно не только вспомнить факты биографии Пушкина, но и сопоставить их с историей и мифами Древней Греции.
Послание «К Чаадаеву» (1818).
Событийная канва. Стихотворение было написано во второй период творчества поэта (с осени 1817 года до весны 1820 года). Он вышел из Лицея, поселился в Петербурге, сближается с декабристами. Подружился с Петром Чаадаевым. Вступил в литературное общество «Зеленая лампа» и Вольное общество любителей российской словесности. Его политическая лирика становится выразительницей идей Союза Благоденствия. Из наиболее значимых созданий того времени – одна «Вольность» и послание «К Чаадаеву».
«И на обломках самовластья
Напишут наши имена!»
Ю. Лотман
: «Почему на обломках русского самодержавия должны были написать имена Чаадаева
, «двадцатилетнего с небольшим молодого человека, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил», как ядовито писал о нем один из мемуаристов, и Пушкина
, ничем еще о себе не заявившего в политической жизни и даже не допущенного в круг русских конспираторов? Странность этих стихов для нас скрадывается тем, что в них мы видим обращение ко всей свободолюбивой молодежи
, а Пушкина воспринимаем в лучах его последующей славы. Но в 1818-1820 гг. (стихотворение датируется приблизительно) оно может быть понято лишь в свете героических и честолюбивых планов».
Юрий Лотман дал, как мне кажется, полный ответ на вопрос. Добавлю, что Пушкин с друзьями-лицеистами сам видел тех, кто проходил под аркой Царскосельского Лицея и шел на войну с Наполеоном. Позже он видел в обществе этих героев, слышал их воспоминания, общался с теми, кто дошел до Парижа, дружил с ними.
В Европе уже установился буржуазный строй, крепостных не было, быстро развивались общественные отношения, торговля, культура. Жизнь, которую видели офицеры-дворяне, казалась им возможной и для России. Еще чуть-чуть (только отказ царя от единоличной власти, или ограничение монархии конституцией, послабление по отношению к крепостным) – и Россия вступит в пору нового периода развития. Этим жила вся прогрессивная часть тогдашней молодежи.
ЛЮБОМУ ГЕНИЮ свойственно провидчески видеть будущее. Пушкин как гений, вглядываясь в века, понимал, что его поколению будет обеспечена вечная слава (письмена на камне) – их имена будут увековечены потомками, при условии если они сами встанут «с веком наравне». Слова звучат призывом к действию и чистым помыслам. Кому же не хочется оставить о себе хорошую память?
Итак, последние две строки послания «К Чаадаеву» Пушкин адресует всему поколению молодых честолюбивых дворян своего времени.
Стихотворение «К чему холодные сомненья?»
Первая часть стихотворения – размышления поэта над древними развалинами.
- «Я верю: здесь был грозный храм» , «Грозный храм» - это храм Артемиды, который, по преданию, находился на южном берегу Крыма. «Грозный» потому, что здесь, очевидно, совершались и человеческие жертвоприношения, примером чему является и герой многих греческих трагедий – Орест, которого при попытке похищения статуи Артемиды захватил царь Тавриды (Таврида – это Крысмкий полуостров) и обрёк его в жертву богине.
- «Здесь успокоена была Вражда свирепой Эвмениды» - богини Мщения. (Когда-то Ахилл мечтал оборвать мщение. Она успокоена – слава Ахиллу!) Богини Мщения по имении Эриннии преследовали Ореста за убийство матери. Но после суда богов, признавших Ореста правым, они чудесным образом обратились в Эвменид – богинь плодородия, успокоив свой свирепый нрав.
- «Здесь провозвестница Тавриды На брата руку занесла » - сестра Ореста Ифигения – жрица Артемиды – должна была принести его в жертву.
- «На сих развалинах свершилось Святое дружбы торжество» - то есть дружба восторжествовала. Имя Пилада в переносном смысле теперь означает «верный друг».
- «И душ великих божество Своим созданьем возгордилось». Думаю, что ареопаг, очистивший Орестея от греха, восхитился взаимной преданностью друзей.
Во второй части стихотворения от дружбы античных Ореста и Пилада поэт обращается к своей дружбе с Петром Чаадаевым.
- «Чадаев , помнишь ли былое?» Чадаев (иначе: Чедаев) – это, скорее всего, домашний вариант фамилии . Поэт и необычных для России взглядов философ Чаадаев дружили. Более того, Петр Яковлевич оказывал на растущего поэта сильное и благотворное влияние. В разговорах двух равных мыслителей вырабатывался не только характер Александра Сергеевича, но и его убеждения. Пришло время, и Чаадаев содействовал, как и Жуковский с Карамзиным, смягчению условий ссылки – за оду «Вольность» государь не желал более мириться с чрезмерно смелой критикой в свой адрес.
Между первой частью стихотворения, посвященной настоящей дружбе, и второй существует прямая связь. Пушкин проводит параллель между Чаадаевым и Пиладом (Пилад в переносном смысле - верный друг).
- «Я мыслил имя роковое Предать развалинам иным » - напоминание о стихах: «И на обломках самовластья Напишут наши имена».
Соотнося главные слова с эпитетом «роковой» в стих. «Любви, надежды... » и стихотворения «К чему холодные сомненья», получаем: роковое имя = роковая власть = самодержавие. «Предать развалинам» - означало «разрушить». Иные развалины - не древние развалины успокоившихся Эриний, где свершилось «дружбы торжество», но развалины из стихотворения «Любви, надежды…», где они являют собой разрушенную переворотом империю.
Эти мысли для Пушкина - дело прошлое, репрессии за свободолюбивые мысли сделали свое дело - сердце поэта смирено «бурями», «теперь и лень и тишина».
- «На камне, дружбой освященном, Пишу я наши имена » - на развалинах храма, где был свершен подвиг беспримерной дружбы, поэт предпочитает оставить имена свое и Чаадаева. Спустя годы сердце поэта оставило мысли о переворотах государственных и обратилось в умилении лишь к воспоминаниям о настоящем друге (а кутили же они вроде вместе, а? не только планы путча вынашивали? – Л.И.).
Писать имена на обломках - древняя скифская традиция. Камень как особо прочная «бумага», на которой можно писать, без боязни за исчезновение, вымученное сердцем поэта не строки, а духовно-нравственные уроки – послание нам, его потомкам.
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой.
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество, *