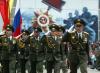Говорить об истории русской крестьянской общины - это значит говорить о народной истории России. Община - важнейший социальный институт, который существовал в течение веков русской истории. На него можно смотреть как на способ жизни русского народа, опосредующий все его действия в мире, как на тот первичный коллек тив, в который входил русский человек (когда-то общины были всесословными, а не только крестьянскими).
Говорить об истории русской крестьянской общины - это значит говорить о народной истории России. Община - важнейший социальный институт, который существовал в течение веков русской истории. На него можно смотреть как на способ жизни русского народа, опосредующий все его действия в мире, как на тот первичный коллек тив, в который входил русский человек (когда-то общины были всесословными, а не только крестьянскими).
Причины гибели общины были предметом исследования многих историков, обществоведов, экономистов. Мы же попытаемся взглянуть на них глазами этнопсихолога.
Мы не ставим своей задачей написать исчерпывающее исследование о русской крестьянской общине и сконцентрируем свое внимание на последних десяти годах ее существования. Тем не менее нам невозможно обойтись без того, чтобы не коснуться нескольких тем из истории общины. Эти краткие обзоры неизбежно будут носить фрагментарный характер, но они дадут нам возможность ввести в оборот тот материал, который будет служить основой для наших выводов, но который недостаточно известен современному читателю.
Таким образом, наш очерк разобьется на две части, первая из которых состоит из нескольких коротких историко-теоретических заметок о жизни русской общины, а вторая целиком посвящена теме коллективизации.
1. Крестьянская община у различных народов
Приступая к исследованию русской крестьянской общины, мы должны прежде всего отрешиться от двух крайних взглядов. С одной стороны, община не была исключительно русским явлением. Более того, большинство ее черт, таких как общинная солидарность, обычай соседской взаимопомощи и т. д., являются широко распространенными во многих странах мира. С другой стороны, общину нельзя рассматривать просто как стадиальную форму развития сельскохозяйственного коллектива, она не является архаическим пережитком (в России она возникла только в XIII-XIV веках), генезис и тенденции ее развития в разных странах различны, и можно даже высказать предположение, что часто одним словом "община" исследователи называют организации, сходные по своим внешним чертам (например, наличию земельных переделов), но абсолютно различные по своей сущности.
Так, русскую общину иногда сравнивают с немецкой маркой. Но если в России роль крестьянской общины вплоть до конца ХlХ века постепенно возрастала и со временем крестьянский "мир" все более и более регулировал хозяйственные отношения в деревне, то, например, в Германии можно было наблюдать обратный процесс. Здесь по мере развития поземельных отношений индивидуалистические устремления общинников проявляются все с большей силой; шаг за шагом они ломают те преграды, которые накладывает на них общинная солидарность, пока "мирской" дух не исчезает окончательно. И если и у немцев неизбежно сохраняется коллективное использование отдельных видов угодий (например, пастбищ), то для них характерно не общинное, а общее владение. В Германии крестьяне были коллективными собственниками, каждый имел в собственности свой пай .
Кроме того, если в России земельные переделы начинались в связи с ростом дефицита земли, то в Германии, напротив, "под влиянием роста населения исчезают права совместного пользования, чересполосицы и свободного перегона стад. Как только население уменьшалось вследствие ли войн, эпидемии и эмиграций, экономический порядок ретроградировал" . Процесс, обратный российскому.
С другой стороны, крестьянская община Восточного Средиземноморья и Среднего Востока по своему хозяйственному и организационному устройству сходна с русской общиной, хотя община мусульманских народов отличалась от русской по ряду социальных функций и, что главное, не была в полном смысле слова "миром".
Кроме того, уже в ХlХ веке в арабской, персидской, турецкой и курдской крестьянских общинах наблюдалась тенденция перехода к частной собственности на землю и переделы производились все реже. Например, "лишь весьма неясные сообщения свидетельствуют о существовании у курдов патрономических владений и пользования пахотной землей с посемейным распределением. <...> Как на западе, в Ираке, так и на востоке, в курдских районах северо-восточной Турции и западного Ирана, в сравнительно больших деревнях и небольших горных поселках исследователи отмечают лишь существование крестьян-собственников и крестьян-арендаторов помещичьих земель" . У народов Ближнего Востока иным являлся и генезис общины - он связан с оседанием кочевых племен на землe, и по мере отхода от кочевых традиций общинные структуры приходят все в больший упадок.
Зато в армянской общине мы наблюдаем тенденции, сходные с русскими. Она была крестьянским "миром" со всем многообразием его функций и, кроме того, имела тенденции землепользования, сходные с русской общиной, в частности усиление уравнительных механизмов.
У другого восточно-христианского народа - грузин - община была значительно менее распространена; в тех же райнонах, где она существовала, преобладали семейные общины, причем они были весьма разветвленными. Определенные черты "мирского" духа мы можем наблюдать и здесь, но в менее выраженной форме. "Родовые начала, покоящиеся на общности происхождения, до того прочны, что ни разрастание родовой общины в волостную, ни насильственные меры администрации <...> не в состоянии не только подорвать, но даже ослабить ту моральную связь, которая соединяет всю общину" . Отдельные роды "сохраняли свою независимость, фигурируя как обособленные единицы" . Был широко распространен родовой культ, и в честь своего покровителя община сооружала особые храмы-молельни.
Что касается славянских народов, то у украинцев и белорусов мы находим главным образом подворную форму землепользования. Нечто напоминающее нашу общину встречалось у сербов. Но сербские "задруги" были, в отличии от русских общин, кровнородственными союзами.
2. Процесс трансформации русской крестьянской общины
Русская крестьянская община только в позднейшие времена приняла вид, которые многие исследователи принимали за застывшую древнюю форму, - вид поземельной деревенской общины. До ХVII века крестьяне обычно селились дворами-хуторами. Иногда два-три двора, редко больше, располагались рядом. Слово "деревня" относилось к экономии данного двора. Многолюдных сел не существовало. Общиной, "миром", была волость, которая объединяла такое количество дворов, что существовала возможность нормального самоуправления, нормального функционирования "мира". Несмотря на столь значительные отличия древнерусской общины от позднейшей, существенный характер той и другой оставался один и тот же. Она всегда стремилась быть автономной самодостаточной целостностью.
В любом новом месте, любом новом крае, где происходила русская крестьянская колонизация, очень быстро образуется крестьянская община. Причем на каждом новом месте поселения русских община проходит заново весь путь своего развития, и в различных регионах государства одновременно существовали общины разных типов.
Общины-волости были широко распространены в Сибири еще в начале ХХ века и преобразовывались в общины-деревни лишь с ростом населения и в связи с процессом трансформации захватной формы землепользования в уравнительную, вследствии нарождающегося дефицита земли. Процесс этот, подробно описанный известными исследователями русской крестьянской общины А. Кауфманом и Р. Качоровским , делился на несколько стадий и сопровождался быстрым и психологически относительно легким изменением прав крестьян на пользование землей, происходившем во всех местностях по примерно одинаковому алгоритму. Если при многоземельи заимка безусловно находилась во владении того, кто первый ее захватил, не важно использовал он ее или нет, и община всегда вставала на его сторону когда кто-либо покушался даже на земли, не обрабатываемые им в данный момент, то при сокращении земельных ресурсов община начинала передавать неиспользуемые земли другим своим членам. Затем, если земельный дефицит усиливался, община урезала участки наиболее обеспеченных землей крестьян в пользу малоземельных, а впоследствии переходила и к регулярным земельным переделами. Если крестьяне, даже целой общиной, выселялись на новое место, где существовал избыток земли, форма землепользования вновь становилось захватной. Так, крестьяне центральной полосы России, оказываясь в малонаселенных районах Сибири, вместо привычных им общин-деревень образовывали общины-волости и селились на заимках. Но коль скоро в данный район направлялись новые потоки переселенцев и начинала ощущаться ограниченность земельных ресурсов, в течение нескольких лет происходил переход к уравнительному землепользованию.
В основе мировоззрения крестьян лежало понятие о том, что земля, Божье достояние, должна использоваться по-божески, поэтому в случае обилия земли это означало, что каждый мог взять себе столько, сколько мог обработать, а в случае малоземелья - ее справедливое перераспределение. Таким образом, русская община являлась гибким организмом, приспособленным к самым различным условиям жизнедеятельности и сохранявшим в неизменности свои основные установки.
Трансформация общины как хозяйственного механизма постоянно шла в сторону ее укрепления вплоть до ХХ века, одновременно развивался и совершенствовался и сам принцип уравнительности. Здесь надо заметить, что уравнению подлежали только крестьянские земельные наделы. Скот, орудия труда, выращенный урожай, любые другие продукты труда находились в полной собственности крестьянской семьи, а в некоторых случаях даже конкретных ее членов и порой наблюдатели поражались степенью индивидуализма, допускавшейся крестьянскими обычаями.
Происходил, например, переход от подворного поравнения к подушенному или "по нужде". Конкретные уравнительные механизмы в различных местностях разнились между собой, так что "смело можно сказать, что невозможно придумать такого принципа периодического уравнительного распределения земли, который не был бы уже в целом ряде изменений применяем. <...> Формы менее уравнительные заменяются более уравнительными, уравнительно-передельный механизм совершенствуется. Подворное поровнение встречается лишь как пережиток или, наоборот, как форма, так сказать, вырождения (вследствие малоземелья)" .
Вплоть до ХХ века переход крестьян от общинной формы землепользования к подворной был большой редкостью. Более того, исследователи отмечали, что даже в тех случаях, когда этот переход формально совершался, крестьяне зачастую о нем забывали и отрицали сам его факт . Даже после распространения права частной собственности на землю на крестьян, последние, хотя и покупали земельные участки, но не верили, что земля действительно становится их собственностью, полагая, что купленные ими участки поступят в общий передел. Часто так и происходило. Община выкупала у крестьянина землю и включала ее в свой общий земельный фонд Таким образом, мы видим, что община была гибким механизмом, вовсе не застывшим, а напротив, постоянно развивающимся. Однако, повторим, одна черта общины в любых обстоятельствах оставалась неизменной - она была автономным самоуправляющимся "миром".
3. Крестьянский мир в эпоху крепостничества
Вплоть до ХVI века крестьяне, и те, что жили на государственных землях, и те, что жили на частновладельческих, были подчинены наместникам или другим начальникам, служащим правительству, и непосредственно от землевладельца не зависели. Крестьяне могли переселяться от частных землевладельцев на государственные земли и наоборот. Впоследствии законодательно были установлены сроки переселений - Юрьев день. Однако закон продолжал признавать за общиной права самоуправления, собственного суда, раскладки податей и надзора за порядком и нравственностью своих членов. Крестьяне были равноправными членами русского общества и наравне с боярами и купцами находились под покровительством закона.
Итак, государство до поры до времени не покушалось нарушать основы крестьянского самоуправления, однако оно стремилось ограничить мобильность крестьянского населения. В то время крестьянские переселения были широко распространенным явлением, зачастую крестьяне оставались на каждом новом месте не более, чем на несколько лет. Этим обеспечивалась колонизация новых регионов, но это же вносило существенную дезорганизацию во внутреннюю жизнь государства, находившегося почти все время в состоянии войны. Все внутреннее устройство Московского государства "покоилось на принудительном разверстывании обязательных повинностей и служб между отдельными группами населения с безвыходным прикреплением каждой группы к ее специальной службе и ее специальному тяглу; все население - от последнего холопа до первого боярина - оказывалось, таким образом, закрепощенным без возможности сколько-нибудь свободно распоряжаться своим существованием. <...> Зависимость крестьянина от служилого землевладельца была лишь своеобразной формой службы крестьянина тому же государству" . Крестьяне, таким образом, становились неотъемлемой принадлежностью земли, на которой жили. Они лишались права покидать ее, а землевладельцы - права сгонять крестьян с земли. Причем новый порядок не устраивал ни крестьян, ни землевладельцев, а нравился только казне. "Весь ХVII век и даже начало ХVIII правительство должно было поддерживать этот порядок силой" .
В личную зависимость от землевладельца крестьяне попали только с введением Петровских ревизий, когда любая связь между крестьянином и государством могла уже идти только через посредство помещика. В течение всего ХVIII века положение крестьянина все более сближалось с положением раба. Так, "в период с 1765 по 1785 годы помещики получили право отдавать своих крепостных людей в каторжные работы за дерзости, право отдавать крестьян и дворовых людей в какое угодно время в зачет в рекруты, и, наконец, в силу указа от 7 октября 1792 года крестьяне и вообще крепостные люди прямо были причислены к недвижимым имениям своих помещиков, наравне с другими хозяйственными принадлежностями, и как полная и безгласная собственность помещиков лишены были почти всякой обороны от злоупотребления помещичьей властью, и в отношении своей личности, и в отношении к имуществу" . Был издан указ "о продаже людей без земли в удовлетворение казенных и партикулярных долгов с публичных торгов, но без употребления молотка" (Цит. по: ).
Община лишалась малейшей правовой защиты. Кроме того, если действия властей на первых порах, с известной долей натяжки, могли быть объяснены стремлением к унификации государственной жизни, гипертрофированным этатизмом, то при Екатерине II и это слабое оправдание существующего режима отпадало. Если раньше крестьянами могли владеть только служилые дворяне, поскольку они сами являлись винтиками в государственной машине, то дарованием вольностей дворянству "крепостная зависимость крестьянина перестает обуславливаться обязательной службой его владельца и тем самым утрачивает свое публично-правовое основание. <...> В сознании самой крестьянской массы вызревает убеждение в том, что крепостное право утратило прежнее государственное назначение, и потому подлежит немедленному упразднению. Освобождение дворянства от обязательной царской службы рассматривалось крепостными крестьянами как явная предпосылка и к уничтожению крепостного права на крестьян. И вот каждая новая мера, направленная на расширение дворянских привилегий в течение всего XVIII века сопровождается взрывом волнений крепостных крестьян" .
С этого момента бунты на Руси не затихают. Крестьяне ни на один миг не смиряются со своим крепостным состоянием. В этом контексте даже идея о народной "вере в царя" оказывается почти только фантомом. В документах о крестьянских волнениях можно встретить достаточно много доказательств недоверия крестьян к личности правящего императора. Однако, при всем том, крестьяне абсолютно убеждены, что государство на их стороне. "Скажем, когда крестьянам, отказавшимся подчиниться помещику, удавалось лично вручить царю прошение с изложением их просьб и объяснением мотивов своих действий, а царь принимал это прошение из рук крестьян" , они никогда не сомневались в положительном решении их вопроса и отказывались верить доводимому до их сведения отрицательному решению, считая его подложным.
Таким образом, крестьяне внутри себя хранили истинный образ государства или как бы сами себя считали государством. Во всяком случае, царь выступал при этом в качестве экстериоризации собственного образа. Как писал Лев Тихомиров, "монархия уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законным не то, что приказывал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа" . И в этот период, как заметил некий жандармский офицер из Пензенской губернии, "весьма замечательное значение приобретает у крестьян слово "мир". Они ссылаются на него как на законную опору даже в противозаконных своих действиях" (Цит. по: ). В народе живо непоколебимое убеждение, что "как скажут крестьяне на сходах, так царь и решит" (Цит. по: ). Это ощущение было постоянно актуализировано в эпоху крепостного права. Поэтому в этот период общинное сознание обострено, община оказывается, по существу, для крестьянина единственной властью - их собственная крестьянская община и Россия-община, существующая в их сознании. Любой крестьянский бунт - это бунт общины и бунт за общину. Можно сказать, что это и бунт за Россию-общину, за государство. Русский бунт нельзя назвать бессмысленным.
4. Алгоритм крестьянского бунта
Как мотивы, так и характер протекания русских крестьянских бунтов не отличались многообразием. В эпоху Пугачевщины "народ поднялся по царскому кличу прежде всего для того, чтобы помочь взойти на царство государю, радеющему о черни и потому истинному. <...> Царь и народ - вот политическая проблема Пугачевщины" . Каждый мало-мальски знакомый с русской историей может сказать, что "царь и народ" - центральная проблема любого крестьянского восстания. Так, в революцию 1905 года губернатор Могилевской губернии Клинберг докладывал министру внутренних дел, что, по мнению народа, "если живется крестьянам плохо, то потому, что между царем и народом стоят правящие классы и интеллигенция" . А губернатор Полтавской губернии князь Урусов, подчеркивая верность народа царю, указывал, что сама "эта вера и это убеждение могут явиться причиной весьма нежелательных явлений, подать повод к беспорядкам" . Значительно позднее проблему царя и народа сформулировал Л. Троцкий: "Если бы белогвардейцы догадались выбросить лозунг "Кулацкого [то есть крестьянского - С.Л.] Царя", - мы не удержались бы и двух недель" (Цит. по: ).
С другой стороны, центральная проблема крестьянского бунта может быть представлена как противопоставление "мира" и государственной власти. Царь и народ, царь и "мир" - общее "мы". Так, "Московское восстание 1648 года было описано по живым следам свидетелем, который отождествлял в своем рассказе московскую мятежную толпу с миром-народом, со всей землей. По его представлению, государю били челом на Плещеева, от которого миру великий налок и напрасные наговоры, и Государь выдал Плещеева "всей земле". "Мир" же возмутился на заступников и единомышленников Плещеева. Царь прикладывался к Спасову образу на своих уступках земле, и миром и всею землею положили на его Государеву волю" . Возмущение народа обращено на "сильных людей", среди которых находятся и агенты государства, или же непосредственно против государственных агентов. "Когда" земским людям "кажется, что они одержали победу над "сильными", эта победа рисуется им в виде единения милостливого царя с землею, в виде договора царя с землею о том, чтобы вывести из царства "сильных людей". Словом, государственный строй (в его идеальном виде) воплощается для населения в личности царя" .
Таким образом, русский бунт всегда был выражением конфликтности между двумя внутренними альтернативами русского народа: "мирской" и "государственной". Его функциональное значение состояло в том, что с его помощью отчасти сбрасывалось накапливающееся между ними напряжение.
Бунт всегда представлял собой "мирское" действие. Бунтовал "мир" в полном составе, и главным объяснительным мотивом действия крестьян было: куда "мир", туда и я, мне от "мира" нельзя. Любые индивидуальные увещевания участников волнений со стороны властей были абсолютно неэффективны.
Что обычно служило поводом для бунта? Практически всегда одно и то же - докатывающийся до крестьян слух о нарушении "сильными людьми" - помещиками - воли царя. Воля же эта всегда была одна - раздать крестьянам землю, то есть совершить "черный передел" - всероссийское поравнение. Слух этот мог являться в самой разной форме. На протяжении веков мы встречаемся с проявлениями легенды о скрывающимся царе: или, что тот или иной царь не умер, а ждет своего часа возглавить народ в защиту законной монархии, или, что тот или иной законный претендент был смещен помещиками и также ждет своего часа. Причем образы эти были порой довольно фантастичны. Так, в период революции 1905 года "крестьяне Волковского у. Харьковской губ. говорили, что идет великий князь Михаил, раздает земли и разрешает грабежи. Князь облачается крестьянским воображением в особенную одежду. Он сияет. Ему приписываются сверхестественные силы" .
Любое слово, исходящее от властей, могло истолковываться как указание на всероссийское поравнение. "Еще чаще слухи об отобрании помещичьих земель не имели острого характера, а являлись спокойным и твердым убеждением большей части местного крестьянства" . Причем крестьяне считали своим долгом перед царем добиться осуществления его воли, и тогда причиной волнения могло стать любое событие местного масштаба, как-то: сомнения в законности наследования каких-либо земельных угодий или действий каких-либо чиновников.
При этом все крестьянские бунты происходили почти по одному сценарию. На первой стадии они имели подчеркнутый характер легитимности. "Крестьяне являлись в имение во главе со своим старостой, который с бляхой на груди следил за правильностью распределения хлеба. На первых порах крестьяне брали в имениях только зерновые, пищевые и кормовые продукты, а, кроме того, не разрешали друг другу брать ничего, говоря: "Не по закону, нельзя"" . Корреспондент газеты "Русские ведомости" описывал действия крестьян так: "Сначала они тщательно высчитывали, что нужно для трудового существования и хозяйствования самому помещику, выделяли ему соответствующее количество хлеба, сена и скота, и только после этого все остальное забирали и увозили домой. Но, когда помещики начали оказывать сопротивление, крестьяне стали собираться огромными толпами с большим количеством подвод и начинали, как они выражались, "баставать", то есть грабить одно имение за другим. В деревнях, охваченных движением, не оставалось ни одного взрослого человека, который не принимал бы участие в погромах" (Цит. по: ).
По мере разгорания восстания крестьяне переходили к прямому насилию, а затем, если дело заходило еще дальше, следовали жестокости и зверства. Так, в Курской губернии была подожжена усадьба князей Бебутовых, крестьяне окружили горевший дом "и не позволили никому из них спастись, все сгорели заживо" . По мере разгорания бунта таких случаев становилось все больше и больше. Возникало ощущение, что "пришло время черни, что теперь она все себе может позволить... Само ощущение такой свободы действий вызывало в народных массах чувство радости жизни и желание взять все от нее, что она может дать в настоящий миг воли. Так, когда толпа зажигала на площади кучу конторских бумаг и, кидая в огонь расчетные книги, хохоча, кричала: "горите наши долги", - она несомненно наслаждалась тем же ощущением, как наслаждается колодник, разбивший свои кандалы и ушедший от погони. В таком состоянии духа толпе обыкновенно хочется развернуться, загулять и, таким образом, согласно со своими вкусами, отпраздновать свою свободу. <...> Пьяная толпа звереет окончательно, теряет всякую сдержку и совершает страшные жестокости, всячески истребляя "злодеев", насилуя их жен и дочерей, не щадя и детей, разгромляя и сжигая усадьбы, заводы и целые города" . Это картина народного бунта в его последней стадии. Затем следует спад, апатия и усталость.
Мы можем видеть, что в начале бунта крестьяне действуют в рамках определенных парадигм своего традиционного сознания. При этом равновесие между различными альтернативами этнического сознания, которое позволяет функционировать обществу как целому, нарушается, и одна из них как бы вырывается из общего контекста и существует автономно. Некоторые ее характерные черты выступают особенно резко и тоже вырываются из общего контекста. Так, бросается в глаза утрированное стремление к "законности" в явно противозаконных действиях: желание при грабежах соблюсти принцип уравнительности, выделяя долю и прежнему владельцу имущества. Очевидная невозможность соблюдения этих принципов порождает дальнейшие смысловые разрывы в сознании участников бунта. Их действия становятся все более хаотичными.
Характерной особенностью русского бунта является именно противоборство внутриэтнических альтернатив. Одна из них впитывает определенные признаки другой, как бы пародирует их. Так, в период Пугачевского бунта вокруг самозванного императора теснились назначенные им генералы и чиновники - государственная иерархия. Так, и в период первой русской революции в крестьянской среде встречалось множество студентов-провокаторов, должных занять место "упраздненного начальства" . Причем некоторые молодые крестьяне "называли сами себя студентами" , то есть крестьянская масса в пародийной форме выдвигала из своей среды новую бюрократию. В тот же период крестьяне предъявляли помещикам революционные прокламации в качестве подтверждения того, что "они действуют на законных основаниях. Прокламации имели для крестьян особое значение. Они рассматривали их как распоряжения, исходящие из вышестоящих органов власти" .
В действиях восставшего народа отчетливо заметны черты провокационности. Народ сознательно провоцирует власти на ответные действия, на проявление силы и жестокости. На своей верхней точке эти действия выливаются в самопровоцирование, ярчайшим примером чего могут служить события Кровавого Воскресенья 9 января. Народ по сути решил опытным путем проверить, есть ли у него царь и есть ли у него Бог. Причем, как показывают свидетельства очевидцев, народ был внутренне готов к отрицательному ответу. Во время рабочих собраний Гапон "забрасывал слова о возможности нападения, о предстоящей опасности, о том, что их, может быть, не допустят к царю, и царь может отказаться выслушать свой народ. Эти речи он кончал словами: "... и тогда нет у нас царя!". "И тогда нет у нас царя", - единодушно подхватывало собрание и в восторженном экстазе готово было идти за Гапоном до конца" . Складывается впечатление, что народ где-то бессознательно желал именно отрицательного ответа - ответа, который развязывал бы ему руки. И после расстрела толпы: ""Нет больше Бога! Нет больше царя! - прохрипел Гапон, срывая с себя шубу и рясу. - Нет Бога! Нет царя! - подтвердили окружающие грозным эхом" .
Этой же народной провокационностью можно объяснить то, что народ несколько раз за свою историю собирался идти и шел брать Москву. Это понятно, если вспомнить замечание немецкого путешественника А. фон Гакстгаузена, что "Москва имеет для русского народа значение, которое ни один город ни в одной стране мира не имеет для своего народа. Она средоточие национальных и религиозных чувств русского народа. <...> Наполеон не знал и не предчувствовал этого. Если бы он направил свои армии в Петербург или в Южную Россию, он не возбудил бы до такой степени народного чувства Русского, и как знать: результат мог бы быть иным" .
Так, по точному замечанию исследователя психологии русского крестьянства Н. Фирсова, "под термином Разинщина можно разуметь не только определенную политическую и социальную борьбу, но и определенный комплекс чувств, стремлений" . Разинщина оставила в народе "яркое и любимое воспоминание" , или, как писал поэт и критик А. Григорьев, "Стеньку Разина из мира эпических сказаний народа не выкинешь" .
Более того, в своей песенной поэзии народ поставил "батюшку Степана Тимофеевича высоко, выше даже любимого своего древнего богатыря Ильи Муромца, сам матерый старый казак оказался у Степанушки только в есаулах, хотя при этом Разина и при жизни народ считал колдуном и чародеем, и эта репутация так и осталась за ним в народных песнях и преданиях. Народ знал, что Разин был великий грешник, и думал, что за грехи его земля не приняла, и что он придет снова, когда на Руси грехи умножатся" . Здесь чувствуется что-то вроде упоения на краю мрачной бездны. И это ощущение в качестве навязчивой идеи проходит через всю русскую историю и имеет огромное множество воплощений. Если у народа есть что-то светлое, святое, то появляется желание проверить его на прочность, тряхнуть им. Здесь можно отметить и еще один очень существенный момент: народ чувствовал, что "черный передел" придет, когда грехи на Руси умножатся.
Однако ничего сверхнеобычного для русской истории в день Кровавого воскресенья не было. В царствование Алексея Михайловича народ также направился в царскую резиденцию в Коломенское, дабы указать царю на виновников своих бед и изменщиков и просить управы. Тогда "перебили да забрали 700 человек, да потонули при бегстве в реке более 100 человек; 150 человек было повешено около села Коломенское в тот же день" .
5. Крестьяне и революционеры
Итак, в действиях крестьян в период революции 1905 года не было ничего для них необычного. Это был не первый и далеко не самый страшный из русских бунтов. Происходил он по традиционной схеме и совсем не обязательно должен был заметно повлиять на дальнейшую жизнь русских крестьян. Да, крестьяне в революцию действовали под чужим влиянием, послушавшись провокаторов-революционеров, но ведь и Пугачевский, и Разинский бунты нельзя рассматривать как исключительно внутренне-русские явления. Со стороны казаков (которые сами не причисляли себя к русским) это была борьба за самостоятельность и политическую автономию и даже завоевательное нашествие. Яицкие казаки были "убежденные сепаратисты, их пылкая фантазия рисовала им замечательную картину владычества над всей Русью из своего, милого их сердцу края" .
Русские крестьяне, очевидно, подхватывали чужую песню, но почему-то ведь они ее подхватывали!
Точно так же подхватили и песню эсеров - революционной партии, пользовавшейся наибольшим успехом в крестьянских массах. Из множества источников мы знаем, что крестьяне народническую пропаганду отвергли. Крестьяне не только не слушали, что им говорили агитаторы, а, казалось, не понимали самих слов, словно между крестьянином и агитатором стоял невидимый барьер. Это один из защитных механизмов традиционного социума: информация, противоречащая содержанию традиционного сознания, просто не воспринимается.
В 80-е годы хождения в народ прекращаются вовсе, и вплоть до самого конца ХIХ века ни одна революционная партия не пытается их возобновить. Первую робкую попытку совершают эсеры в начале ХХ века, когда по некоторым южным и юго-восточным губерниям уже прокатилась волна крестьянских беспорядков. Результат превосходит все ожидания. По воспоминаниям члена партии эсеров Е. Брешко-Брешковской, брошюры революционного содержания распространялись сотнями, тысячами "сначала только в Саратовской губернии, потом в Вятской и Пермской и одновременно в Харьковской и Полтавской. Но, поскольку все, что производилось в Саратове, а затем в Пензе и других городах не удовлетворяло и сотой доли народившегося спроса, то огорченные мужики сами являлись в город и требовали, чтобы их обучили гектографическому искусству" (Цит. по: ).
С чем же обращались эсеры к народу, что, несмотря на свой антимонархический заряд, не только не получали от ворот поворот, но и воспринимались порой как свои, как, по определению той же Брешко-Брешковской, "люди, заслуживающие доверия" (Цит. по: ).
Программа эсеров представляла собой формулировку парадигм традиционного сознания крестьян, достаточно точную и явно основанную не только на глубоком знании, но и верном ощущении деревенской жизни. При этом эсеры ставили своей целью "использовать в интересах социализма и борьбы против буржуазно-собственнических начал как общинные, так и вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русских крестьян, и в особенности взгляд на землю, как на общее достояние всех трудящихся" .
Согласно эсеровской программе, "верховным собственником земли будет государство, народ; государство должно нарезать земли местным обществам, мирам, последние должны из своей среды выбирать на сходах своих доверенных и уполномоченных, в выборе их будут принимать участие все члены общины или мира. <...> Земля будет предоставляться всякому желающему, то есть право на землю имеет каждый член общины. Право на землю будет определяться трудом" . Идет очевидная апелляция к общинному сознанию. Но она не ограничивается земельным вопросом. В эсеровской программе концентрируются элементы "мирской", "земской" альтернативы русского сознания. Провозглашается идея государства как федерации автономных самоуправляющихся земель, то есть России как большой общины, федерации автономных "миров". Но при этом эсеры вполне выступают как государственники-империалисты (самоуправление территорий есть одна из форм имперской практики), и эсер Н. Кабанов имел достаточно оснований утверждать, что "только при широком развитии местного самоуправления будет прочным большое государство: не будет смут и восстаний. <...> Только при таких условиях государство будет прочным, могучим, богатым и счастливым" . Таким образом, в программе эсеров мы встречаем тот же этатистский выверт, что и в русском государственном сознании вообще: акцентуация "мирских" установок, почти что анархизм, "агитация против всего, что носило характер государственных установлений" , в итоге оборачивались апофеозом государственного могущества.
Средства борьбы эсеров за осуществление своей аграрной программы также в основном черпались из деревенской жизни. Так, в эсерской среде разрабатывалась теория аграрного террора, под которым понимались методы протеста, обычные для крестьян: "потравы, порубки, насильственный захват земель, поджоги и даже убийства самых ненавистных помещиков. Этими же способами должна воспользоваться и партия, но только партия должна эту борьбу осмыслить и организовать" (Цит. по: ). Опасность эсеровской пропаганды состояла в том, что она не звала крестьян к восстанию за чуждые для них цели (в этом случае она осталась бы за пределами народного восприятия), а провоцировала к обычному крестьянскому бунту, надавливала на те стереотипы, апелляция к которым вызывала у крестьян желание бунтовать.
Корреляция народного сознания с эсеровской программой давала страшный эффект. Могилевский архиепископ Митрофан говорил, что община была когда-то очень удобна для учителей народа, но "теперь это преимущество используется людьми, которые вытеснили природных учителей, стараются сеять смуту, прививают крестьянам чувство ненависти, зависти и мщения" (Цит. по: ). Пропаганда входила в сознание крестьян, коррелировала с их этническими константами, но разбивала при этом связь этнических констант с центральными ценностными доминантами крестьян. Община переставала быть приходом, религиозным единством. Разрыв же этой связи неизбежно вызывал состояние смуты, хотя смута эта назревала медленно, и до поры до времени, казалось, не затрагивала основ общинной жизни. Еe результат скажется позднее, в конце двадцатых. А пока бунт действовал на общинные структуры будто бы даже благотворно, укреплял их. Так, община после революции 1905 года представляла собой довольно прочную целостность, умевшую противостоять непосредственному нажиму на нее со стороны правительства во время Столыпинской реформы, которая была (до коллективизации) самой сильной атакой на общинный строй. Хуторское движение, несмотря на все старания правительства, практически не привилось в центральных и особенно северных областях России, где "мирские традиции были особенно сильными" .
К оживлению общины привела и революция 1917 года. "В жизни сельского населения того времени [послереволюционных годов - С.Л.] исключительно важную роль играла община. <...> Община со своими "мирскими" органами самоуправления отлично объединяла местных крестьян для борьбы против помещиков, а ее передельные механизмы оказались вполне пригодными для распределения помещичьей земли среди крестьян. В ходе уравнительных переделов земли крестьянская община вновь ожила и окрепла, поглотив основную массу земель" . ""Земельное общество" в русской деревне представляло собой типичную "мирскую организацию" крестьян-единоличников. <...> Частые, почти ежегодные переделы земли, начавшиеся в период аграрной реформы, не прекратились и с переходом к НЭПу" .
Это и неудивительно. Ведь Россия получила свой вожделенный "черный передел" - всероссийское поравнение. Большевистский декрет о земле был составлен на основе эсерской аграрной программы.
Община, казалось, победила, она добилась осуществления своей вековой мечты, но она же подавилась этой мечтой. Она оказалась больше не способной ни к какому сопротивлению и через несколько лет скончалась вяло и апатично, даже не попытавшись сопротивляться своим убийцам.
6. Русский крестьянский мир и церковный приход
Слова "мир" и "приход" по отношению к ХV - ХVII векам, на Севере до века, синонимичны. Так, согласно утверждению исследователя древних рукописей П. П. Соколова, в Устюжских актах ХVII века "мы видим прежде всего тесную связь между приходом и волостью, как единицею мирского самоуправления. Трудно подчас решить, где кончается приход и где начинается волость, и не суть ли это два разных названия одной и той же административной единицы" .
Если строилась новая церковь, то приход делился, автоматически делилась и волость. "Мирской" сход, по сути, являлся и органом религиозной общины. Дела поземельной общины и прихода никак не разграничивались.
"Община выбирала причт, то есть священно- и церковно-служителей" . Церковная казна являлась кредитным учреждением, которое выделяло ссуды членам прихода. Около церкви отводились места, на которых селились нищие, питавшиеся "от церкви Божьей на средства благотворительности. <...> Само место, где жили церковные нищие, называлось "монастырем", дома, в которых они жили, нищенскими келиями" .
Если миряне-прихожане имели огромное влияние в церковно-общественных делах, то и "приходской клир, в свою очередь, участвовал в мирских выборах земельных старост, старшин или судей, и священники, с ведома и разрешения высших властей, участвовали в самом суде, в качестве членов, при разборе разных судебных дел своих прихожан, дьячок носил обязанности сельского секретаря и нотариуса" .
По словам историка северного русского "мира" С. В. Юшкова, такой "приходской строй мирской церкви, с его автономией, был для мирских людей - идеален. И мало-помалу стал развиваться взгляд, что приходская автономия есть часть земского самоуправления. <...> Этот взгляд был логичен и вытекал из инстинктивного представления о мире, как публичном правовом союзе, направленном на удовлетворение всех потребностей, в том числе и религиозных, и отступление от этого принципа было невозможным для северных мирских людей по своей инициативе: отделение религиозной общины от мира могло произойти только под воздействием церковной и государственной власти" .
Безусловно, идеализация древнего русского прихода, характерная для литературы ХIХ века, преувеличена. "Братчины" - пиры, устраивающиеся по церковным праздникам, - порой превращались в крупные попойки с мордобоем, духовенство находилось во всецелой зависимости от прихожан и в подавляющем большинстве своем было не образованно, а только грамотно.
Но при всем том, "в древнерусском приходе - "мире" - нельзя не видеть своеобразное, подчас наивное выражение набожности народа. Как в избе есть большой угол, так есть он и в деревне в виде часовни или церкви, к которой приурочена вся жизнь окрестного населения" . И в конечном счете, при всем своем несовершенстве приход был "обществом, где люди собирались у одной церкви, чтобы слушать Слово Божее, вместе учиться, спасаться, чтобы не погибла душа брата" .
Кроме того, приходы состояли в прочном и постоянном взаимодействии с монастырями. Монастыри же были центрами просветительной и благотворительной деятельности.
В качестве основных причин упадка прихода в ХVI - ХIХ веках можно назвать следующие: существование крепостного права, систематическое государственное давление на приход, развитие раскола и гонение на монастыри при Екатерине II.
Крепостное право полностью лишило приход всякой автономии. Выборы священника приходом, формально еще практиковавшиеся в первой половине XVIII века, в действительности уже "зависели от одной воли владельца, так что согласие крестьян можно было и не спрашивать" . При этом помещик смотрел на своего приходского священника как на собственного холопа. "Произвол помещиков был тогда так велик, что они могли священно- и церковнослужителя лишить хлеба, дома, места" . Помещики обращались "в большинстве случаев с причтом своего села так же, как со своими мужиками, а члены причта, коих содержание зависело только от доброхотства прихожан, а более всего от милости местного помещика, принуждены были усвоить в сношениях с ним то раболепное и искательное обхождение, при котором терялось уже всякое человеческое достоинство. Конечно, при таком общественном строе духовные связи пастыря с пасомыми должны были ослабевать, наступало взаимное равнодушие" .
Кроме того, правительство возложило на приходское духовенство непосредственные полицейские обязанности. В целях борьбы с расколом и политической смутой священники обязаны были "отмечать в книгах погодно об исполнении прихожанами долга исповеди, штрафовать не исповедовавшихся и доносить на них, производить розыск раскольничьих попов" , а также, раскрывая тайну исповеди, доносить правительству о назревающих бунтах.
Безусловно, все эти меры затрагивали и массу православных крестьян - подозрению в неблагонадежности подвергался каждый. В довершение всего на приходского священника была возложена "весьма щекотливая и тягостная обязанность: следить за неуклонением крестьян от переписи. Вся тяжесть розыска "приписанных душ" падала именно на приходских священников, и за утайку сих душ следовало им наказание: лишение сана и каторжные работы" . Таким образом, подразумевалось, что священник должен стать в своем приходе, в своем "мире" соглядатаем, то есть внутренним врагом-предателем. Ведь неудовольствие крестьян существующим политическим строем было повсеместным, их собственное рабское положение было лишено в глазах крестьян малейшей легитимности. Точно также легитимности оно было лишено и в глазах приходского священника, тесно связанного по своему происхождению с крестьянской средой, но обязанного под страхом наказания проповедовать с церковного амвона о необходимости крепостного права, его законности и освященности Богом, что, конечно, "роняло в глазах народа говорившего такую проповедь священника, тем более, что произвол властей достиг в это время грандиозных размеров" . Мало того, в 1767 году был принят указ, подтвержденный в 1781 году, содержащий строжайший запрет всем церковно- и священнослужителям "писать и подписывать крестьянам их жалобы на владельцев" .
Всеми этими мерами в совокупности правительство добивалось того, что священники могли превратиться в кого угодно, но только не в учителей народа. С одной стороны, они, в силу своего униженного и бедственного состояния, сближались с крестьянской массой, с другой стороны, теми обязанностями, которые возлагались на них правительством, лишались морального авторитета в среде крестьян. Во время крестьянских бунтов они оказывались не в состоянии занять ту позицию, которая могла бы предотвратить срывы и бесчинства бунтующего народа. Они либо становились на сторону противозаконных, с точки зрения крестьян, властей, причем очевидным образом не по убеждению, а из страха перед своими притеснителями, в безраздельной власти которых они находились, и таким образом, лишались всякого влияния на крестьян, либо примыкали к крестьянским бунтам, становились их участниками и, вольно или невольно, давали моральную санкцию производимым крестьянами бесчинствам. "Помещики поступали со своими священниками как с крепостными, ставили тех и других на одну доску. Духовенство, со своей стороны, побраталось с крепостными людьми в ненависти к своим боярам, в ропоте и в волнениях против общего крепостного гнета, что не замедлило обнаружиться своим участием в крестьянских волнениях, особенно частых и сильных в это царствование [Екатерины II - С.Л.]" . Таким образом, священник в период смуты находился не над системой, а внутри нее и мало что мог сделать для того, чтобы система возвращалась в прежние рамки; традиционное сознание крестьян все больше расшатывалось.
Кроме того что разрушался сельский приход, разрушалась и связь крестьянства с монастырем. В 1764 году был издан указ о штатах монастырей, и из России было вынужденно удалиться большое число монахов, принадлежавших к исихастской, истинно христианской традиции. Так, в какой-то мере было приостановлено воспроизводство личностного сознания в среде крестьян - духовных детей этих монахов. Между тем гарантией существования традиционного общества является наличие внутри него достаточного количества носителей личностного сознания, доминанты которого сопряжены с установками данного традиционного. Они и поддерживают доброкачественность и целостность структуры традиционного сознания, поддерживают традиционное сознание изнутри.
В течении всего XIX века религиозность в крестьянской среде падает быстрыми темпами. Проанализировав исповедальные ведомости, историк Б. Г. Литвак, замечает, что "процент не бывших у исповеди "по нерадению" в 1842 году составил 8,2 % среди мужчин и около
7,0 % среди женщин. Через пять лет, в 1852 году, 9,1 % и 8,05 %" . Но массовый отказ от исповеди наблюдается немного позднее. В 1869 году в своем очередном отчете священник села Дмитровское Звенигородского уезда Московской губернии Иоанн Цветков сообщал: "Из числа 1085 человек мужского и женского пола прихожан находится только по исповедальной записи исповедовавшихся и святых Христовых Таин приобщивщихся 214 человек, не бывших у исповеди остается 871 человек" (Цит. по ), причем записных раскольников он числил только 45 мужчин и 72 женщины.
По свидетельству этнографов, нравственное состояние русских крестьян в начале XIX века было много выше их нравственного состояния в конце XIX века. Весь XIX век гораздо более языческий, чем век XVII и XVIII. Тех, кто в действительности мог выполнять в обществе функцию советчиков, становилось все меньше и меньше. Исчезает "народная интеллигенция", по выражению Глеба Успенского.
Светлана Лурье
Главной особенностью русской жизни всегда считалась русская община, а - общинность. О русской общине в 60-70-е годы XIX столетия писали самые разнообразные публицисты. В. Г. Авсеенко, например, понимал, что русская община, это архинародное учреждение, обязана своим происхождением прежде всего слабости личных, индивидуальных инстинктов в русском крестьянине: ему нужна эта собирательная общинная личность, потому что он сознает слабость и бездеятельность своей единичной личности. Стремление к общинности понимается здесь как средство избавления от страха, преодоление бессмысленности жизни единичного человека. Анонимный автор «Отечественных записок» видел в русской общине и сходе идеал социальной свободы, выработанный русским крестьянством: «Если бы русский крестьянин не был так глубоко проникнут этим основным условием социальной свободы, если бы он не всосал его с молоком матери, то общинное владение не могло бы сделаться до такой степени повсеместным и удержаться так долго». Гениальный Владимир Соловьев осознал, что институт общины есть прямое выражение идеи синкретичности, лежащей в основе народного духа: «В самом деле, исторический принцип развития права, как непосредственно выражающего общую основу народного духа в его нераздельном единстве, прямо соответствует началу общинности, а противоположный механический принцип, выводящий право из внешнего соглашения между всеми отдельными атомами общества, есть очевидное прямое выражение начала индивидуалистического». При этом общинность понимается Соловьевым как внутреннее совпадение между сильнейшим развитием личности и полнейшим общественным единством, которое удовлетворяло бы главному нравственному требованию: чтобы все были целью каждого. О том же принципе общинности писал и мифолог-славянофил О.Ф.Миллер: «В общине каждый имеет в виду благо всех, благо целого. …нравственность и сводится ведь к тому, чтобы, отстаивая свою личность, не только не давать ей развиваться в ущерб другим, но и сознательно жертвовать собою для Авсеенко В.Г. Опять о народности и о культурных типах общего дела». Подобную же мысль высказывает Достоевский в романе «Братья Карамазовы» устами старца Зосимы. Появляется она и у других писателей-народников. Личность в таких условиях не уничтожается, а, напротив, достигает высочайшего духовного уровня развития, когда человек сознательно жертвует собой ради всех. Община - это добровольное и высшее единство множественностей. Ф. Щербина попытался даже дать научное определение общины: Под «обществом» народ разумеет прежде всего известный союз земледельческого населения, союз, связывающий своих членов воедино общностью интересов по отношению: 1) к самоуправлению вообще, 2) к религиозным, нравственным и интеллектуальным нуждам, 3) к отбыванию государственных и общественных повинностей и 4) к праву владения и пользования общинною землею и собственностью». Общинные отношения, как мы видим, пронизывали все сферы жизни русского человека.
Писатели-народники (а народничество было ведущим идеологическим течением 60-70-х годов XIX века) выводили общинность из патриархального «первобытного коммунизма». В. Соловьев писал: «Простота и односложность первоначального быта выражается в экономической сфере, во-первых, в отсутствии личной собственности в строгом смысле, некоторого рода коммунизме, и, во-вторых, в простоте и однообразии самого труда и его произведений. Первоначальный коммунизм, фактически доказываемый новейшими исследованиями доисторической культуры, прямо вытекает из преобладания рода над лицом». Несколько позднее, уже в начале XX века, критик Е. А. Соловьев давал такую оценку народничеству: «В России крестьянской они видели существование таких устоев, опираясь на которые, по их мнению, можно было питать самые смелые надежды. Этими устоями были артель, община, кустарная промышленность и др. остатки «первобытного коммунизма», как называют это явление западные социологи. Это сближало народников со славянофилами». Но если «первобытный коммунизм» прямо соотносится с архаичной, мифологической культурой, то и общинность, следовательно, также становится результатом деятельности мифологического сознания.
Это соотношение общины с первобытным, патриархальным «коммунизмом» легло в основу истории Достоевского. Он предполагал, что исторический прогресс содержит в себе три этапа. В наброске «Социализм и христианство» (1864-1865 гг.) он писал: «Патриархальность было состояние первобытное. Цивилизация - среднее, переходное. Христианство - третья и последняя степень человека, но тут кончается развитие, достигается идеал…». В патриархальных общинах человек живет массами непосредственно, в будущем же достижение идеала будет означать возвращение в непосредственность, в массу, но свободное и даже не по воле, не по разуму, а просто по ощущению, что это очень хорошо и так нужно. Эта концепция Достоевского легла затем в основу его утопического рассказа «Сон смешного человека». Видимо, под влиянием Достоевского ту же мысль высказывал и B. Соловьев: «Таким образом, в историческом развитии права, как и во всяком развитии, мы замечаем три главные ступени: 1) первоначальное несвободное единство; 2) обособление индивидуальных ; 3) свободное их единство». Народники, однако, считали, что возможно в развитии миновать второй этап (буржуазная цивилизация) и сразу, опираясь на общинные устои русской жизни, выйти к новому, добровольному и свободному единству, к новому социальному порядку. Фактически это означало прямое, хотя и на совершенно новом уровне, возвращение к мифологической культуре, возвращение к мифу, так как общинности (старой, новой или «будущей») всегда соответствует интуитивное мышление и синкретическое мировосприятие, т.е. - миф. На этом новом уровне мифологичность должна была получить выражение в духовности и трансцендентной устремленности русского народа.
Этот новый уровень общинности тогда же получил название «всеединства». Философом всеединства в это время (70-е годы XIX в.) был В. Соловьев. Он говорил, что стремление человека к безусловному, то есть стремление быть всем в единстве или быть всеединым - есть несомненный факт. Философ признавал, что человек или человечество есть существо, содержащее в себе (в абсолютном порядке) божественную идею, то есть всеединство, или безусловную полноту бытия, и осуществляющее эту идею (в естественном порядке) посредством разумной свободы в материальной природе». Такое всеединство (единство во множестве) достигается, когда осознается принцип, что «все имманентно всему» (Лосский), когда все внутренне присуще всему и существует не в себе, а находится в теснейшей связи со всем, существует для всех. Такое миропонимание русского человека полностью противоположно европейцу. Религиозный философ Р. Гуардини видел это: «В отличие от распространенной «на Западе» позиции, сводящейся к формуле «ты - не я, я - не ты», здесь предполагается, что в «ты» присутствует также и «я», хоть содержание их различно». Русский человек преодолевает оппозиционность, бинарность и заменяет их синкретизмом и всеединством. Причем категория всеединства, как несущая идеал, соотносится не с быстротечным временем, а с такой же идеальной вечностью. Всеединство, следовательно, онтологично и поэтому мифологично. Русская идея - это жажда воплощения всеединства, единения всех людей во имя Христово и под знаменем православной церкви.
Здесь появляется новый аспект проблемы русской общинности и всеединства - глубокая религиозность русских и соборность. В русской идее знание сливается с верой, и в этом проявляется еще один из аспектов синкретизма. При этом миф и религия - понятия близкие, но не одинаковые. Они могут пересекаться и взаимодействовать, взаимопроникать, но в принципе они относятся к совершенно различным уровням и областям человеческой личности. Миф занимает подсознание, где находится в невыявленной форме, а религия относится к сфере сверхсознания и всегда осознанна. Конечно, в религии сохраняются элементы мифа, так как сверхсознание взаимодействует с сознанием, а сознание контролируется подсознанием. Но никакой «отмены» или «замещения» мифа религией не происходит. Речь может идти только о взаимодействии или, в редких случаях, преобладании в душе нации, народа, племени или отдельного человека подсознания (миф) или сверхсознания (религия). Русская религиозность прямо связана с мифологизмом и становится одной из черт национального характера. Н. Я. Данилевский отмечал в книге «Россия и Европа», что «религия составляла самое существенное, господствующее (почти исключительное) содержание древней русской жизни, и в настоящее время в ней же заключается преобладающий духовный интерес простых русских людей…». Отсюда философ выводит «понятие православное, утверждающее, что церковь есть собрание всех верующих всех времен и народов под главенством Иисуса Христа и под водительством Святого Духа, и приписывающее церкви таким образом понимаемой - непогрешимость». Общинность, взятая в религиозном, церковном аспекте, и есть соборность, на которую возлагали надежды наши выдающиеся мыслители.
Известно, что книга Данилевского «Россия и Европа» легла в основу рассуждений героя романа Достоевского «Бесы» Шатова, что В. Соловьев очень высоко ценил это Глубочайшее исследование души русского народа. Подлинное всеединство возможно только как соборность, то есть - во Христе и через единую соборную православную церковь. Н. И. Аксаков писал: «Итак, только в церкви может полное единство общего соединяться с полною свободою личного убеждения, ибо в том собственно и состоит задача церкви, как общения, чтобы в ней образование общего неустанно шло рука об руку с полною свободою каждой отдельной единицы». Подлинная общинность возможна в православной культуре только как соборность, как церковность. О. Миллер считал, что «и на политической, и на вероисповедной почве исходною точкою славянофильству служит понятие об общине - не как о каком-нибудь учреждении, а как о чисто нравственном союзе между людьми. Издавность общины является предрасположением ко вступлению в церковь, как общину не только «крестившихся, но и облекшихся во Христа». Эти же размышления легли в основу романа Лескова «Соборяне» и его повести «На краю света».
Общинной русской культуре всегда характерен традиционализм. Традиционализм означает выражение в неких стереотипах группового опыта народа и пространственно-временную их передачу. Именно традиция становится общим знаменателем, на котором отдельные племена формируются в нацию. Эта традиция всегда духовна, всегда сакральна и всегда отражает народное самосознание. Роль общины здесь принципиальна. Именно она формировала, хранила, изменяла и передавала традиции. Общинность, соборность, всеединство означают не только единство людей в пространстве, но и во времени. Через традицию предки делались современниками, так как человек повторял или возобновлял их поведение, легшее в основу традиции. Само сохранение стабильности общества невозможно без признания людьми неких общих ценностей. Как правило, эти ценности признаются благодаря их освященности временем, опытом или способом происхождения. Эти ценности и ложатся в основу традиции. Так, традиция управляет формой и даже местом жизни племени, подчиняет себе нужды племени и его историю. Поэтому традиционализм отвергает линейное время и заменяет его циклическим, а это значит, что оно мифологизируется.
Любая традиционная культура мифологична, так как традиция - это закрепленная в опыте и освященная временем мифологическая парадигма. Правильно вообще делить общества не на первобытные (или примитивные) и современные (или развитые), а на традиционные, статичные и революционные, развивающиеся. Каждому из этих типов соответствует и своя особая форма сознания. Традиционной культуре соответствует мифологическое сознание и синкретичное, нерасчлененное общество. Революционной культуре характерен антитрадиционализм, рационализм, позитивизм. Славянофилы и почвенники в России были традиционалистами; западники, революционные демократы и социалисты - антитрадиционалистами. Традиционализм - это не просто обращение к прошлому, но, как мы уже говорили, и его сакрализация. Рационалистическое отрицание традиций есть одна из форм восстания профанного против сакрального. Упадок традиции ведет к отрицанию коллективистских, общинных основ, к расчленению единого общества на отдельные единицы (плюрализм). С другой стороны, развитие частной собственности и частного предпринимательства ослабило общинные устои в России и в корне подорвало традиционализм.
Е. Шацкий выделяет следующие особенности традиционализма аграрного общества: 1) сакрально-мифологическая или религиозная окраска (давность освящена авторитетом сверхъестественных сил); 2) синкретизм; мир представляется как единое целое, где природное, социальное, божественное и пространственно-временное сливаются; 3) установленный порядок воспринимается как нерушимый, неизменный, стабильный; 4) культура воспринимается как нечто целостное, и изменение каждой из ее частей считается опасным для существования культуры в целом; вообще, культура и прогресс возможны только в рамках традиции; 5) безальтернативность установленных традиций, невозможность выбора принципов поведения, однозначность традиции; 6) бессознательность, неосознанность следования традиции; традиция переживается, но не осознается, традиционализм неизбежно оказывается иррационализмом. Традиционализм таким образом опирается на признание прежде всего ритуально-мифологической, магической и религиозной сущности человека. Бог, дух, первопредок или культурный герой является творцом как космического, так и социального порядка, и как неизменен космос, также неизменен и социум. Традиция, следовательно, открывает человеку мифологические времена и переносит их в настоящее. Не давность, а святость, сакральность откровения кладется в основу традиции. Она сакрализует жизнь людей и помогает им сохраниться в профанном окружении. Традиция также и онтологична, так как относит человека к изначальным временам, к первопричинам Бытия. Вообще традиция выступает как посредник между современностью и вечностью, историей и мифом, она - средство мифологизации жизни.
Традиция близка к мифу еще по трем моментам: по наличию парадигмы, по связи с природными циклами, по культу предков. «Прошлое, - считает Шацкий, - это кладезь прецедентов, примеров, опытов, конкретных образцов ощущений, мышления и поведения. Сохраняя верность предшественникам, мы должны вести себя так же, как они, не спрашивая «почему» и «зачем». Традиция несет в себе образцовые модели и сама выступает как парадигма, как норма поведения, то есть она несет в себе те же функции, что и миф. Это может означать только одно: традиция в своей основе имеет мифологическое сознание, она в принципе мифологична. У человека для сохранения стабильности выработался комплекс «необходимости наследия как парадигмы», и как образец для подражания, традиция и миф становятся целью культурной деятельности человека и ее основой, которой он всецело подчиняет свою деятельность.
Как и миф, русская община в своей жизни и ее традиции прямо зависят от природных циклов. Трудовой ритм, освященный традицией, определяется циклической сменой времен года, лежащей также в основе мифо-ритуальной системы. В числе таких ритуальных традиций сохранились явно мифологические и даже языческие - обращение к первопредкам, духам природы и языческим божествам, которые должны были обеспечить хороший урожай (Мать-Земля, Ярило, Купала, Кострома, Чур, домовой, полевой и др.). К сверхъестественным силам обращались во время общих праздников (т.е. - «всем обществом»), имевших аграрное происхождение. Такие же глубокие мифологические корни имеет и традиция «заповедных дней», когда было запрещено работать или выполнять определенные виды работ (например: прясть по пятницам).
Сохранность традиции сочетается с культом предков. Традиция связана с преемственностью, т.е. со стремлением племени сохранить связи с предками и установить их с потомками. Нация - это союз людей не только в пространстве, но и во времени. Ни одно новое поколение не свободно от ценностей и идеалов, выработанных в прошлом. Традиционализм включает в себя идеи наследия, преемственности и возвращения к утраченному идеалу, носителями или творцами которых были первопредки. Традиционализм племени заключается в том, что человек (благодаря ритуалу) стремится достичь отождествления с предками, с прежними поколениями. В традиционных обрядах (свадьба, похороны, аграрные праздники) усопшие прямо принимали участие в делах живых. Итак, идея преемственности поколений, уважение к прежним поколениям, авторитет предков прямо восходит к мифологическому культу предков. Отсюда поклонение Роду, Чуру, домовому, русалкам и пр. Учение Н. Федорова о «общем деле» - физическом воскрешении умерших предков силами науки - апогей философских рассуждений о культе мифологических первопредков. Наконец, очень важным становится и вопрос о средствах передачи традиций. В общине существуют два уровня сохранения и передачи традиций - семейный и профессиональный. Семья, как единица общины, берет на себя основную нагрузку передачи традиций; именно семья, а не школа, не место работы, не армия или другие структуры, способствующие социализации человека. Мнение семьи, родственников выступало как регулятор и стимул поведения. Афанасьев отмечал огромное значение семьи для понимания миросозерцания славян: «Вследствие естественных, физиологических условий, определивших первоначальное развитие младенческих племен, славянин по преимуществу был добрым и домовитым семьянином. В кругу семьи или рода (который был тою же семьею, только разросшеюся) проходила вся его жизнь, со всем ее обиходом и родственными торжествами; в ней сосредоточивались самые живые его интересы и хранились самые заветные предания и верования». Отсюда - культ огня, очага, дома и домашних духов-покровителей. Семья вообще считалась одной из главных святынь у славян; в семье «сливаются мысли и чувства о народе, долге, верности, духовной крепости и чистоте личных человеческих помыслов». Семейная жизнь рассматривалась как духовный, религиозный, праведнический подвиг, а семейность считается одной из главнейших черт русского национального самосознания, связанных с общинностью.
В число профессиональных, конкретных хранителей и передатчиков традиций и заветов предков входили сельские праведники и знахари, мастера, сказители былин и сказок, постоянные распорядители в ритуальных игрищах. Все эти лица ведут свое происхождение от мифологической древности, когда они сливались в жреческую касту.
Но существовал еще и общегосударственный уровень сохранения традиций. Здесь главную роль играли два сословия - священнослужители и аристократы. Священники всегда и во всех культурах были хранителями не только религии, но и духовных традиций народа. Об этой роли священства рассказал Лесков в романе «Соборяне». Что же касается аристократии, то она становится на государственном уровне единственной группой лиц, объединенных не по образу действия, а по праву рождения (в России такое положение существовало до реформ Петра I). Аристократия - опора традиций государства и коллективной памяти народа. Главная цель существования аристократии - в сохранении традиций. Такими аристократами-традиционалистами становятся у Достоевского князь Мышкин («Идиот») и Версилов («Подросток»). Генетически замкнутые группы носителей традиций (аристократия) восходят к тайным обществам мифологических культур, основная функция которых - сохранение тайных сакральных культов и обычаев.
Традиция связана с мифом, а традиционная культура не может не быть мифологической. Задача мифа - в оправдании и укреплении традиции, и любая традиция держится на мифе - священном предании племени. Национальный духи национальная история, замешанные на традиционалистском подходе, всегда мифологизируются. Из мифа вырастает и политическая идеология, особенно тогда, когда она, как например консерватизм, прямо связана с идеей традиции. Такой консерватизм не есть что-то отрицательное, а становится залогом естественного эволюционного прогресса: «В основе даже самой благородной и прогрессивной борьбы за личность лежит, очевидно, консерватизм формы, что показывает самое слово самосохранение. Консерватизм есть основа и источник прогресса, как это не странным кажется с первого раза». Политическая идеология консерватизма выходит из мифологического традиционализма и строится как новая мифология. Но если человек или группа лиц (партия) выбирает из прошлого нечто конкретное в качестве идеала, то руководствуется тем, что какие-то элементы его вполне приемлемы сегодня. Такая обоснованная традиция, выбранная сознательно и ставшая идеологией, неизбежно перестает быть «реакционной» и превращается в консервативную утопию. Будущее естественно вырастает из прошлого, а не сменяет его путем отрицания. Если же традиционализм имеет религиозно-мифологическую окраску, оценивает мир как единый чувственно-материальный космос, а миропорядок как неизменный, стабильный, то он и становится базой для всеединства, соборности и теократии.
Общинности и традиционализму русских соответствует земледельческий, почвенный характер культуры. «Народ, - писал Р. Гуардини о русских, - стоит у истоков бытия. Он сросся в единое целое с землей - той землей, по которой он ходит, на которой трудится и благодаря которой живет. Он органически включен в общий контекст природы, в биологические циклы света и роста. И он ощущает, быть может подсознательно, единство Вселенной». , почва, природа и ее циклы, неразличение с ними, невыделение и слитность с Вселенной и особенно с родной землей, - вот что является одной из составляющих русской души. Отсюда - почвенничество братьев Достоевских, А. Григорьева и Н. Страхова, ожидавшее слияния всех сословий русского народа на почве единой религии, на просторах единой земли. Достоевский мечтал о возвращении образованных классов русского общества к родной почве.
Общинность и женственность породили у русских к концу XIX века следующие черты характера: терпимость, традиционализм, ненасилие и непротивление, мягкость, покорность и почтительность к старшему, уважение и любовь к младшему, стремление к братству и справедливости, коллективизм, семейность, доброта и всепрощение, смирение и мечтательность, всечеловечность, жалость к униженным и оскорбленным, любовь, стоящая выше справедливости, самопожертвование как нравственный закон, жажда обретения счастья и поиски смысла жизни, страдание ради обретения идеала и сострадание ради спасения ближнего, отзывчивость, глубинная духовность, трансцендентность и глубокая религиозность, приоритет духовного перед материальным и обращение к миру высшему, идеальному, божественному. Все эти черты характера составляют мифологию русской нации и прямо влияют на всю ее историю. Мистика земли в русском самосознании породила и ряд основных мифологем в ее культуре. И прежде всего это, конечно, тип странника. Странничество - особенность русского самосознания. Русской теллурической (почвенной) культуре свойственно ощущение безграничного пространства. От него идет стремление освоить эти пределы, которое происходит через движение по земле. Это очень близко к типу мифологического культурного героя, который по мере продвижения в пространстве вносит в него порядок, уничтожая остатки хаоса и осваивая космос. Русский странник не имеет на земле своего дома, так как ищет Царство Божие. Мифологический культурный герой также видит своей целью достижение царства богов, либо обнаружение некоего сакрального места - энергетического центра мира. Такой странник прямо противоположен русскому же скитальцу. Странники появляются на страницах романов Достоевского (Макар Долгорукий в «Подростке» и старец Зосима в «Братьях Карамазовых»), у Лескова (Иван Флягин в «Очарованном страннике»), в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» и в ряде произведений Л. Н. Толстого («Отец Сергий», «Посмертные записки старца Федора Кузмича» и др.).
Сакральным центром в мифе может быть прекрасный райский сад - закрытое для простых людей священное пространство. Обычно это место заклято или освящено самим Богом и противостоит внешнему, профанному миру. С таким заклятым пространством мы встречаемся в рассказе
Лескова «Заячий ремиз». Достоевский же в «Дневнике писателя» доказывал, что идея Сада способна спасти всех: «Человечество обновится в Саду и Садом выправится - вот формула. Теперь ждут третьего фазиса: кончится буржуазия и настанет Обновленное Человечество. Оно поделит землю по общинам и начнет жить в Саду». Такой утопический Сад появляется и в рассказе Достоевского «Сон смешного человека» как прекрасный, но вполне достижимый идеал. Как видно, мифологема Сада прямо связана и с почвенностью, и с общинностью русской культуры, и с мифологическими представлениями о сакральном пространстве. Мифологема Сада становится прообразом библейского райского сада и апокалиптического Нового Иерусалима. Для русской теллурической культуры очень важна мифологема пахаря. Земледелец, пахарь - главная фигура земледельческих культур. В славянской мифологии он - всегда культурный герой, освобождающий землю от демонических сил (остатков хаоса) и вносящий в космос порядок. Таков Никита Кожемяка, утопивший змея и сделавший Вселенную строго структурированной (проведя сохой межу на земле). У славян земледельцу всегда противостоит великан или колдун, которых он тем не менее одолевает. Здесь очень важен образ Микулы Селяниновича - героя былин и могучего пахаря. Он странствует по русской земле (мотив странничества) и носит в суме тягу земную. Говорится, что Мать Сыра-Земля любит его, поэтому он становится непобедимым. Микула Селянинович оказывается сильнее и умнее хитрого колдуна и охотника Волха Всеславича и могучее великана и богатыря Святогора. Победа Микулы над этими героями отразила переход от охотничьей культуры к земледельческой у славян, так как Святогор - это осколок образа верховного бога неба у славян-охотников (Святовит, Сварог). Никита Кожемяка и Микула Селянинович - это трансформировавшийся в сказочный и былинный образы бог-громовержец Перун, который, - пишет Афанасьев, - «как щедрый податель дождей… почитался творцом урожаев, установителем земледелия, покровителем поселян-пахарей, и даже сам, по народным преданиям, выходил в виде простого крестьянина возделывать нивы своим золотым плугом». Пахарь становится также и космическим героем, так как созвездие Орион в мифах народов мира - это небесный плуг, первообраз земного, человеческого. Так образ земледельца в русской культуре восходит к глубокой языческой древности и мифологизируется.
Земледелие, как мы видели, в мифологии связано с космическим порядком, со священным миром семян, почек, всходов, весны, цветов, плодов. Циклизм земледельческого календаря лежал в основе стабильности мира. Бросание зерна в землю (его похороны) и последующее прорастание (воскресение) - основа языческих культов умирающего и воскресающего бога (Осириса, Диониса, Ярилы, Костромы). Но земледельческой культуре соответствует и христианство с его идеей воскресшего Христа. Падшее и воскресшее зерно, семя - одна из устойчивых мифологем русской культуры. Неудивительно поэтому, что она появляется в романах Достоевского (идея падшего и возродившегося героя) и особенно - в «Братьях Карамазовых», где использован в качестве эпиграфа библейский образ падшего зерна. Этот образ расширяется Достоевским до вселенского уровня. Прежде всего семя может быть понято как душа. Тело человека - тюрьма для души, могила души. Тогда семя (душа) не воскреснет к новой жизни, если не умрет (не пройдет стадию жизни в теле). Образ семени писатель соотносит и с понятием идеи. Ф. А. Степун уточняет: «Идея - семя потустороннего мира; всход этого семени в земных садах - тайна каждой человеческой души и каждой человеческой судьбы». Бог бросает на землю идею-семя, которое должно прорасти в нашем мире. Идея-семя есть божественный первообраз, получающий у нас конкретно-телесное воплощение. Эта идея-семя-первообраз падает в душу героя Достоевского, чтобы взойти там уже законченной системой взглядов и полностью подчинить волю героя себе, сделать его «мономаном», страдальцем идеи (таковы Раскольников и Аркадий Долгорукий, Шатов и Кириллов, Иван Карамазов). Здесь «идея» полностью овладевает человеком и становится его личностным мифом, мифологической парадигмой героя. Особое место занимает в земледельческой культуре конь. В русской литературе он трансформируется в образ забитой клячи. Эта мифологема творчески использована Н.А.Некрасовым (стихотворение «До сумерек»), Достоевским («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»), Салтыковым-Щедриным (сказка «Коняга»). Во всех случаях образ забитой клячи соотносится с темой забитого русского народа, его судьбой. Забитость, кротость, безответность и непосильный, убивающий труд - вот что выводит образ коня на уровень национальной мифологемы. Но конь еще и непосредственно мифологический образ. Прямо связанный с землей (куда уходит все живое после смерти), конь является психопомным животным, душеносцем в царстве мертвых; он еще и образ самой смерти. Тема коня-смерти в мифе и тема забитой клячи в русской культуре постоянно пересекаются (в «Коняге» Щедрина). Но в облике коня появляется еще и само - вечный труженик на небесном поле в земледельческой мифологии. Мифологически объясним и мотив постоянного, изматывающего и убивающего труда забитой клячи. Непрерывность действия как наказание - один из постоянных мотивов мифологии загробного мира (миф о Сизифе). Так мы видим, что национальные образы и мотивы непосредственно вырастают из древних мифологических моделей и в свою очередь вновь мифологизируются.
Мы уже не раз обсуждали тему русских коллективов выживания. Но это в теории. Давайте познакомимся с тем, что скажут практики. Скажут о реальном состоянии движения за воссоздание русских общин. Семен Резниченко побеседовал на эту тему с руководителем проекта "Русская община" Александром Кравченко.
Что побудило Вас заняться проектом «Русские общины»?Проблематикой самоорганизации русского народа мы занимаемся уже много лет, и открытие проекта «Русская община» стало естественным продолжением нашего интереса к этой тематике. Когда я говорю «мы» и «наши», я имею в виду коллектив единомышленников, занятых в области различных общественных проектов, прежде всего связанных с воспитанием подрастающего поколения.
За последние 20 лет в России появилось много интересных и уникальных форм самоорганизации нашего народа. Это явление можно условно объединить под термином «община». Суть этого явления можно объяснить как естественную реакцию русского православного человека на очевидный распад современного общества, его атомизацию и связанные с этим огромное количество негативных явлений. Появление общин есть объединение здоровых русских людей для противостояния этим негативным явлениям и процессу распада русского общества. Проект «Русская община» берет на себя попытку объединения огромного положительного опыта современных общин в деле созидания новой общности на духовных основах и традициях русского народа.
Почему создание русских общин так актуально в наше время?Процесс атомизации общества, уничтожения традиционных связей, горизонтальных и вертикальных, поставил на повестку дня решение актуальных вопросов: воспитание подрастающего поколения, создание здоровой среды обитания, сохранения национального самосознания и множество других, в том числе и духовного совершенствования. Все эти вопросы невозможно решать в одиночку, поэтому совершенно естественным стало появление таких, на первый взгляд, экзотических для современности форм объединения русских людей как общины. Практика последних лет показала, что такое объединение является не только естественной формой бытия русского народа, но и чрезвычайно эффективной формой решения проблем современного человека.
На какой идейной основе могут в наше время объединяться русские?На наш взгляд, таковой духовной основой является Православие. Оно дает цельность мировоззрения, определение болевых точек в себе самом и окружающем нас мире и пути преодоления разнообразных общественных проблем.
Как развивается проект «Русские общины»? Расскажите, пожалуйста, о его старте и современном состоянии?Как уже было отмечено, проект «Русская община» стартовал не с пустого места, а с серьезной практической основы, которую дают современные русские общины. На сегодняшний день в рамках проекта собрано довольно много информации по этой тематике. Однако, по нашему мнению, проект находится еще на начальной стадии своего развития. Во-первых, потому, что мы не обладаем и десятой частью информации по этой тематике в современной России, во-вторых, не создано информационное поле общения современных практикующих общин, к чему стремится проект «Русская община». Выполнить эти задачи быстро невозможно по причине специфики деятельности современных общин. Разнообразные проблемы, связанные с хозяйственно, общественной, воспитательной и иной деятельностью, не дают общинам в полной мере присутствовать в открытых информационных источниках.
Что побуждает русских людей объединяться в общины?Наблюдение за практикой современных общин говорит о том, что основным побудительным мотивом для людей является беспокойство за будущее своих детей. Большинство нам известных общин как раз и были созданы по этой причине. Несколько семей объединяются для того, чтобы вести совместное воспитание собственных или приемных детей (создание православной школы, кадетского корпуса, военно-патриотического клуба, летнего лагеря или совместные экскурсии или паломнические поездки). Достигнув успеха на этом поле, люди начинают развивать другие формы общественной деятельности – культурные, хозяйственные и другие. В результате формируется устойчивое общественное объединение, которое мы квалифицируем как общину.
Насколько развита сеть русских общин? В каких регионах их больше, а в каких меньше?Пока нельзя говорить о существовании сети подобных организаций. Горизонтальные связи между этими организациями еще очень слабы. По нашим оценкам, в России существует от 300 до 400 организаций, которые можно смело отнести к общинам. Численность некоторых из них достигает нескольких сот человек (Обнинская община «Спас», Свято-Алексеевская пустынь, община в селе Ивановка Ярославской области). Однако большинство из них объединяет несколько десятков человек. При этом надо отметить. Что проект «Русская община» имеет данные лишь о 30-ти подобных объединениях, при том, что многие из них полноценными общинами назвать пока нельзя. По нашим данным, большая часть успешно развивающихся общин находится в Средней России, при этом эти данные нельзя назвать достоверными. Мы также хотели бы отметить очень важную вещь: большинство приходов Русской Православной церкви являются либо развитыми общинами, либо стремятся к этой форме общественной организации, что, соответственно, может увеличить количество общин в России до нескольких десятков тысяч, то есть, можно сказать, что данное общественное явление имеет еще проблему классификации или определения объекта самого явления. Однако налицо устойчивая тенденция общественной жизни – стремление русских православных людей к общинной форме бытия.
Каковы направления работы, которыми заняты русские общины? Какие из них наиболее актуальны?Самое актуальное направление работы на сегодняшний день – это воспитание подрастающего поколения, о чем уже было сказано. На этом поприще общины добились наиболее значимых результатов. Вторым по успешности можно назвать культурное направление – создание всевозможных самодеятельных коллективов в основном фольклорной направленности, проведение всевозможных традиционных русских праздников на сегодняшний день приняло повсеместный и массовый характер. Здесь следует отметить, что многие направления в деятельности общин смыкаются. Так, например, развитие традиционных художественных промыслов и ремесел следует одновременно отнести к воспитательной, культурной и хозяйственной деятельности. Есть много интересных примеров по развитию хозяйственной деятельности в общинах. В основном это касается потребительской кооперации, строительства, производства сельхозпродукции. В то же время хозяйственное направление, не смотря на его важность, находится в зачаточном состоянии. Есть попытки развивать систему собственной безопасности, но и это направление тоже находится в неразвитом состоянии.
Какие формы русских общин Вам известны? Какие из них наиболее эффективны?На этот вопрос сложно ответить, так как каждая община уникальна. Можно выделить общины педагогической направленности, общины, которые существуют вокруг православных приходов, а также казачьи объединения. В последнее время в городской среде появляются попытки создания молодежных организаций общинного типа. Молодые люди пытаются выстроить форму взаимопомощи и совместной деятельности на общинных принципах.
Что мешает русским объединяться в общины? Какие основные проблемы стоят перед общинным движением?Русским людям мешает объединяться в общины низкий уровень национального и духовного сознания, а также неадекватное восприятие современных общественных проблем. Основной проблемой современного общинного движения является отсутствие полноценной информации о деятельности общин. И как следствие – отсутствие связей и взаимодействия. Кроме того, современное российское православное и патриотическое сообщество не обращает должного внимания на это явление. Это является важной причиной торможения в развитии.
Каковы перспективы развития проекта «Русские общины»? Каковы Ваши планы на будущее?Мы надеемся, что русская община как явление общественной жизни будет набирать силу в нашей стране, и проект «Русская община», как и другие подобные проекты, будет востребован как источник информации и как площадка для выстраивания взаимодействия. Кроме того, в обозримом будущем мы надеемся наладить связи со значительным количеством практикующих современных общин с тем, чтобы в дальнейшем посодействовать созданию объединения организаций общинного типа, прежде всего на региональном, а затем и на общероссийском уровне. Эта задача, по нашему мнению, является важнейшей, так как общины существуют не в чуждой среде, как, например, старообрядцы в Южной Америке, а в среде своего народа и потенциально могут стать основой жизни всего русского народа.
скачать Алаев Л. Б. - подписаться на статьи автораЖурнал: История и современность. Выпуск №2(20)/2014 - подписаться на статьи журнала
Русская крестьянская община долгое время служила и до сих пор время от времени служит аргументом в пользу мнения об особой «общинности» русского народа. Исторические данные говорят о том, что эта «общинность» возникла не ранее XVII в. и была связана с возраставшей нехваткой земли, а также установлением крепостничества и усилением феодальной и государственной эксплуатации сельского населения. Это фактически признано специалистами, однако остается неизвестным широкой (в том числе интеллигентной) общественности.
Ключевые слова: община, уравнительные переделы, долевое землевладение, К. Маркс, Г. Л. Маурер, Б. Н. Чичерин, Н. П. Павлов-Сильванский, А. А. Кауфман, А. Я. Ефименко, А. И. Неусыхин.
The Russian peasant community has for a long time served and serves from time to time up to now as an argument in favour of the idea of an exceptional “communality” or “community-mindedness” of the Russian people. But historical data testify that this “community-mindedness” came into being not earlier than in the 17th century and it was provoked by the started scarcity of land and with intensification of feudal and state ex-ploitation of rural population. These facts are actually recognized among the scholars but remained unknown for the broad (including intelligent) public.
Keywords: community, equalizing land-redistribution, share land-holding, K. Marx, G. L. Maurer, B. N. Chicherin, N. P. Pavlov-Silvansky, A. A. Kaufman, A. Ya. Efimen-ko, A. I. Neusyhin.
Когда барон Август фон Гакстгаузен (1792-1866) в 40-х гг. XIX в. «открыл» русскую общину , его мысли были подхвачены прежде всего националистически настроенными историками-славянофилами, а затем – народниками. Славянофилы нашли наконец в сочинении немецкого барона ту элементарную клеточку, в которой содержался «дух народа» (Volksgeist), именно русского народа, а народники в той же общине увидели зародыш будущего совершенно специфического российского социализма. То, что община существовала и у других народов Европы, славянофилов и народников не смущало; ведь передельная община с душевым наделением землей во второй половине XIX в. была известна только в России, и было весьма легко считать, что, хотя «общинный дух» не был совершенно неведом другим народам, наибольшее развитие он получил и наиболее крепкие корни пустил именно в России.
Громом среди ясного неба прозвучали работы Б. Н. Чичерина (1828–1904), в которых он на основании исторических источников доказывал позднее появление передельной общины. Он утверждал, что первоначальная «вольная община» исчезла в IX–XI вв., а затем, без связи с ней, в XIII–XIV в. новая «поземельная» община была создана вотчинниками в интересах упорядочения наложения тягла на крестьян. Наконец, в XVI–XVII вв. община была закреплена государством как фискальный орган, обеспечивавший сбор государственных повинностей (Чичерин 1856; 1858: 10, 11, 14, 27, 57).
Но проблема общины никогда не была на Руси чисто академическим вопросом. Любая его трактовка связывалась с вопросом о роли государства в российской истории и о собственности на землю (крестьянской или помещичьей). Поэтому выводы Б. Н. Чичерина, его последователей К. Д. Кавелина (1818–1885) и п. Н. Милюкова (1859–1943) (Милюков 1900: 139, 204–206, 224–225) не могли быть приняты «прогрессивной» российской общественностью. Эти авторы были названы «государственной школой», будто бы обеляющей самодержавие, а их выводы ставились под сомнение под разными предлогами. Господствовало убеждение, что любая община унаследована от первобытности. «Западники» тоже не принимали выводов «государственной школы», ссылаясь при этом на материалы других стран, где община в какой-то период существовала и являлась, таким образом, универсальным институтом. К общему вопросу об общине как институте мы вернемся позже, когда рассмотрим материалы по Германии, на которых долгое время базировалась «общинная теория». А пока останемся в пределах России.
Происходило накопление этнографических и исторических фактов. Особенное значение имели работы А. Кауфмана (1864–1919) о появлении общины среди русских поселенцев в Сибири и А. Я. Ефименко о деревнях Северной Руси. Эти тогдашние окраины России дали уникальный материал, с одной стороны, о самопроизвольном возникновении передельной общины из захватного землевладения, а с другой – о специфическом (долевом) способе общинного землевладения и переходе к другим, уравнительным, переделам под влиянием правительственных распоряжений. Эти материалы как бы проиллюстрировали два фактора, внутренний и внешний, вызывавшие возникновение душевых переделов земли в средние века в центральных районах России.
Следует подчеркнуть, что А. Кауфман исходил из материалистического взгляда на проблему: «Правовые, в частности обычно-правовые отношения являются лишь надстройкой, – писал он, – воздвигающейся на фундаменте чисто производственных отношений» (Кауфман 1907, кн. 10: 19). Применительно к общине он делал из этого вывод, что не община (организация) создает ту или иную форму землевладения, а наоборот, условия хозяйствования диктуют формы землевладения, а отсюда и форму общины. «Не орган, община, создает функцию – общинно-уравнительные порядки; наоборот, функция создает для себя соответствующий орган» (Там же: 27).
Развитие сельской общины по Кауфману проходит следующие этапы (ранние формы, связанные с кочевым хозяйством , я оставляю в стороне).
1) Захватное землевладение. Развитие по линии: индивидуальная заимка – деревня – село. Источником права на землю является чистый захват .
2) Ограниченный захват, то есть введение «обществом» сроков, в течение которых захваченная земля считается частной, если она не обработана. В этом проявляется начало формирования общинного права. Дальнейшее его развитие выражается в появлении «отводов», то есть участков, формально выделенных миром в пользование семьям. Сначала отводы лишь санкционируют фактический захват. Затем, с уменьшением пустующих ничейных земель, отводы начинают сопровождаться частичными поравнениями, то есть передачей ряда хозяйственно неиспользуемых участков от многоземельных малоземельным крестьянам. «Эти частные поравнения действуют как струг – они срезают слишком грубые неровности» (Кауфман 1907, кн. 11: 82).
3) Общее поравнение или передел. В качестве промежуточной стадии встречается частичный передел, то есть перераспределение наиболее ценной части пахотной земли при оставлении остальной земли в фактически захватном землевладении. Впрочем, иногда в частный передел пускали в первую очередь какой-либо малоценный участок. Форма передела (подушевой, то есть по количеству мужчин в семье) определялась формой налогообложения (подушная подать).
Не всегда развитие шло в этом направлении. Иногда «земельное утеснение» вело не к возрождению общины, а к закреплению подворного землевладения. Почему примерно в одинаковых условиях развитие шло по двум столь разным путям, Кауфман не знает. Отметим, что этот вопрос остается нерешенным и в масштабе человечества. В сходных социально-экономических условиях у одних народов развивается общинное землевладение, а у других – частное крестьянское.
Придавая главное значение «земельному утеснению», А. Кауфман не отвергает влияния и других причин, в частности налогообложения. Он решительно возражает против идеи о введении передела сверху, хотя указ об этом действительно был издан в 1884 г. Ему удается, по-видимому, правильно вскрыть гносеологические истоки воззрений «государственной школы» относительно централизованного создания русской общины. Он пишет, что если будущий историк станет судить об истории сибирской общины только по документам, он неизбежно на основании купчих придет к выводу о господстве частной собственности до конца XIX в. и о введении переделов указом 1884 г. Между тем фактическая история общины как в Сибири, так, видимо, и в центральных районах России была гораздо сложнее.
Одно из возражений против концепции Кауфмана, именно против сближения этапов развития общины в Сибири и в центральной России, может заключаться в соображении, что русские переселенцы, проникнутые общинной психологией, принесли общину с собой «в голове», и именно поэтому она возродилась, когда в ней возникла нужда. Однако это возражение Кауфман предвидит. Он отмечает, что процесс возрастания роли общины и распространения переделов шел одинаково как в русских деревнях, так и в украинских, хотя на Украине в XVIII – первой половине XIX в. еще не было передельной общины. «И сейчас переселенцы из Европейской России – безразлично притом общинники-великороссы или подворники-малороссы, – и не думают переделять землю, раз они располагают в избытке необходимыми угодьями, ... и наоборот, – при наличии утеснения... переселенцы, опять-таки безразлично, великороссы или малороссы, устанавливают у себя душевое пользование угодьями» (Кауфман 1907: кн. 11: 87) .
На это замечание стоит обратить внимание тем, кто верит в «природный коллективизм» русского крестьянства. Великорусские крестьяне, попав в Сибирь, вовсе не держались за общинные обычаи. Имея возможность захватить много земли, они с удовольствием отбрасывали пресловутую «общинность», и лишь потом, когда их и здесь настигало малоземелье, «вспоминали» о ней.
Другая окраина России – Архангельская, Вологодская и прочие северные губернии – дала материал по иной форме общины, исследование которой пролило свет не столько на развитие центрально-русских областей, сколько на ряд факторов из истории общины в других странах. В XVI–XVII вв. там господствовали «долевые», или «складнические» деревни . Исходной точкой для их развития служило отдельное хозяйство (однодворная деревня). Путем естественного размножения семьи оно превращалось в деревню из двух, трех и более хозяйств, владевших всеми угодьями совместно или же делившими их между собой по наследственным долям. Сыновья патриарха имели равные доли. Их сыновья делили между собой уже только доли соответствующих отцов. Доля одновременно была частью общего владения (так как многие угодья – лес, озера, реки – оставались неразделенными, и доля в них существовала лишь идеально, однако достаточно реально) и индивидуальной собственностью, ибо могла продаваться. Из-за неравного количества мужских потомков в семьях, а также благодаря переходу долей или их частей из рук в руки путем продажи эти доли уже в XVIII в. были резко неравными, сильно запутанными, состоявшими из разбросанных мелких участков. Это серьезно мешало развитию хозяйства.
В этот период в центральных районах уже получил широкое распространение подушевой передел земли. Нет ничего удивительного, что крестьяне Севера увидели в этом переделе определенный выход из создавшейся запутанности прав. В 1795 г., во время пятой ревизии, некоторые крестьяне обратились к вологодскому директору казенных земель с просьбой наделить их землей по душам. Передел распространялся медленно, так как против него выступали те, кто имел крупные доли. Сначала шли в передел только земли, давно поднятые коллективными усилиями. Другие земли, поднятые и расчищенные индивидуально, переходили в руки волости и включались в передел, только если были запущены (пашня – в течение трех лет, сенокос – десяти лет).
В 1812 г., при шестой ревизии, было издано постановление о переделе всех земель, однако о фактически массовом переходе к переделу в северных губерниях можно говорить лишь после 1815 г.
Открыла эволюцию долевых деревень на Севере А. Я. Ефименко . Весьма характерно, что в ходе исследования она вынуждена была радикально пересмотреть свои взгляды на проблему общины на Руси в целом. «Принадлежа к самым крайним поклонникам народа и его общины, – пишет А. Я. Ефименко в предисловии к книге, – я не убоялась на два года всецело погрузиться в изучение архивных документов, чтоб почерпнуть себе желаемое знание у самых его источников... Через два года я вынырнула – но, увы, читатель, вынырнула с полнейшим убеждением, что наша поземельная община вовсе не исконная форма нашего землевладения, как я до сих пор была глубоко и всецело убеждена: она есть продукт более позднего времени, с одной стороны – заключительное звено длинного исторического процесса, с другой – плод внешнего воздействия» (Ефименко 1884: XIV–XV).
Интересен призыв Ефименко изучать историю общины не на основе единого шаблона, прикладываемого к разным народам в разное время, а конкретно, на основе источников. Не смея подвергать сомнению «немецко-мауреровскую теорию» происхождения германской общины из апроприации земли родом, Ефименко отмечает: «Но ведь нельзя опускать из виду одно маленькое словечко – “когда”». Условия XI–XIII вв. серьезно отличались от I в. н. э. «Финский Север завоевывался вольными дружинами, а колонизовался семейными союзами, соответствующими сербской задруге, а уж никак не германскому роду» (Там же: 207).
В этой связи она делает замечание, которое надо выбить на бронзовой доске и вешать перед каждым российским гуманитарием: «Давно уже про нас, русских, говорится, что мы ничего не можем знать, что немцем не написано в книжке. И я, признаться, устанавливая свои положения, не мало смущалась, что не могу, подобно моим оппонентам, сослаться ни на какого немца» (Ефименко 1884: XI) . Как видим, нам придется заняться также и «немецко-мауреровской теорией». Без германской общины нам в русской общине не разобраться.
Таким образом, между родом и долевой деревней, по Ефименко, лежит важный этап – хозяйство и собственность большой патриархальной семьи. Между семьями в пределах волости была некоторая связь, но не поземельная. Долевое землевладение Ефименко считала следующим, непременным этапом развития сельской общины, предшествующим душевым переделам. Это вряд ли правильно. Долевое землевладение зафиксировано в ряде стран, но в каждом случае его удается объяснить спецификой ситуации. Существовало ли долевое землевладение в центральных районах России в раннее средневековье, до сих пор не установлено .
После работ Ефименко и Кауфмана многие историки вернулись к проблеме общины в центральных районах и смогли показать ее развитие более подробно, чем Чичерин, и без его «государственнических» теорий. Уже для М. М. Ковалевского в 1879 г. было ясно, что передельная община возникает значительно позднее создания сельской соседской общины. В лекциях в Стокгольме в 1890 г. он выразил эту мысль совершенно отчетливо: «Сельская община, основанная на периодическом переделе земли, вовсе не является, как это принято было думать, самой архаической формой землевладения, а представляет собой, напротив того, форму сравнительно позднего происхождения» (Ковалевский 1939: 149). Без сомнения, опирался Ковалевский на русский материал.
Наиболее четко историю общины в России изложил Н. П. Павлов-Сильванский (1969–1908). В своей работе, изданной посмертно (Павлов-Сильванский 1910; второе издание: Павлов-Сильванский 1988), он пришел к следующим выводам.
Сходство общины ХIХ в. со средневековой заключается лишь в мирском самоуправлении и совместном владении некоторыми угодьями. Переделы же земли возникли довольно поздно в результате ряда причин, одна из которых – земельное утеснение (как в Сибири), а другая – влияние возрастающей феодальной эксплуатации. «Значительная часть деревень, описанных в наших писцовых книгах XV–XVI вв., состояла из одного двора» (Павлов-Сильванский 1910: 73). Первые поселенцы шли группами, союзами, «родами» или «ватагами». Это было необходимо для защиты от местного населения и от нападений других «ватаг». От этих союзов ведет начало власть коллектива на территории будущей общины-волости. Но селились семьи отдельно.
«Эта высшая территориальная власть союза, общины или мира, лежащая над правом собственности, с течением времени все усиливается. Сначала она ничем не стесняет частных собственников в их наследственных правах и в их новых заимках по праву вольного захвата. Затем, во имя общего блага союза, она ограничивает это право захвата, усиливаясь в отношении незанятых земель, а на следующей ступени развития налагает некоторое ограничение и на занятые земли, посягая на право собственности» (Там же: 114–115).
Эти ограничения начинаются с запрещения захвата без санкции общины (отводы), затем появляются частные экспроприации (незанятых земель), позже переходят ко все более детальному регулированию землепользования и, наконец, к полному переделу. Это относится прежде всего к черным волостям, однако первые переделы появились на частновладельческих землях, и здесь они имели серьезные особенности. «Эти переделы на владельческой земле существенно отличаются от переделов в свободных общинах, рассмотренных выше, и по своим основаниям и по своим целям. Там главное основание передела – земельное утеснение <...> здесь обыкновенно земельное утеснение не при чем; земли нередко есть большой запас. Здесь люди изнурены не малоземельем, а тяжестью налогов, и главная цель передела – достигнуть наиболее точного соответствия между налогами и трудовыми силами каждого. Там бедные ищут землю. Здесь бедные стремятся избавиться от земли» (Там же: 136). И в свободной общине уравнение податей – одна из целей передела, но там землю можно сдать в аренду, а крепостной сделать этого не может и потому земля сама по себе не имеет для него ценности.
Древнейшее известное Н. П. Павлову-Сильванскому свидетельство о переделе в Московском княжестве относилось к 1500 г., в XVII в. такие сведения учащаются, но лишь со второй половины XVIII в. можно говорить о господстве передельной общины в центральных областях. На окраинах (Украине, Дону, Кубани, Кавказе, на Севере и в Сибири) переход к переделам произошел значительно позже – в течение XIX в.
Эти мысли, появившись в печати в 1910 г., уже мало для кого были новыми. Они были широко известны, вошли в энциклопедии и т. п. Я не останавливаюсь здесь на работах А. Постникова, И. В. Лучицкого, В. Воронцова, А. И. Васильчикова, Н. В. Куплевасского, М. А. Дьяконова, К. Р. Качоровского, Ф. Щербины и многих других, но все они сыграли большую или меньшую роль в накоплении фактов и теоретическом осмыслении проблемы. И надо отметить, что все они не принадлежали к «государственной школе» и решительно критиковали точку зрения об «учреждении» общины указами правительства.
Русские марксисты конца XIX – начала ХХ в., в отличие от К. Маркса, пользовавшегося в основном народнической литературой, прекрасно понимали, что русская община – не «древняя». Г. В. Плеханов сделал два однотипных примечания ко второму изданию (1905) «Наших разногласий» (1885). «В то время не было еще окончательно установлено, что русская сельская община не имеет ничего общего с первобытным коммунизмом. Теперь это стоит вне сомнения» (Плеханов 1925: 116; см. также: 140).
У В. И. Ленина нет прямых высказываний о происхождении и истории русской общины, что связано, как мне кажется, с тем, что для него этот вопрос не являлся дискуссионным. Однако целый ряд замечаний Ленина, сделанных походя, позволяет с уверенностью заключить, что он относил создание современной ему русской общины к средневековью и считал ее именно средневековым, феодальным, а не древним пережитком (Ленин 1965–1975: т. 1: 153, т. 4: 55–56, т. 16: 423, т. 17: 65, 91, 98–99, 170).
Советскими исследователями были забыты не только высказывания сакрализованного вождя, но и вся богатая литература, на которую он опирался. Труды русских ученых конца ХIХ – начала ХХ в. не переиздавались. Распространялось пренебрежительное отношение к ним, оправданное тезисом о «кризисе буржуазной историографии». Взгляды на русскую общину, возобладавшие в конце XIX – начале ХХ в., не получили подробного историографического разбора, не опровергнуты фактически, а потому во многих отношениях остаются последним словом науки по этой проблеме.
Однако эти достижения российской науки в советский период были фактически отвергнуты. Методологический постулат, согласно которому сельская крестьянская община ведет свое происхождение с первобытности, несет в себе исконные демократические черты и имеет лишь один вектор развития (а именно – разложение), хотя нередко «сохраняется», не был поколеблен. Все накопленные до того данные о позднем возникновении земельных переделов (а ведь это и было главным аргументом в пользу «демократичности» и эгалитарности российской сельской общины) замалчивались. Такая ситуация объясняется, конечно, прежде всего тем, что отождествление «общинности» и первобытности преобладало и в западноевропейской науке, но главным образом тем, что на подобных позициях стояли К. Маркс и Ф. Энгельс, а траектория развития русской общины в эту концепцию не вписывалась.
Поэтому и нет фундаментальных советских исследований по истории русской общины. Нет ни одной монографии, посвященной истории общины на всем протяжении ее истории, да и статей чрезвычайно мало. Солидные монографии посвящены только позднему периоду, когда существование переделов вне сомнения, но их можно приписать «сохранению» общинного демократизма под уже укрепившейся барской властью. Вопрос о том, как возникли переделы, можно не затрагивать . Или же, напротив, взять для изучения более ранний период, найти сведения о том, что некая общинная связь между самостоятельными хозяйствами существовала, и опять-таки уклониться от ответа на вопрос, когда возникли земельные переделы (Данилова 1994). При этом объявить дореволюционных историков «буржуазными учеными», а о концепции возникновения общины А. А. Кауфмана написать, что она «в целом ненаучна, а в политическом смысле и реакционна, ибо она защищала крупное помещичье землевладение» (Полтаранин 1977: 265; см. также с. 10 в этом же сборнике).
В обобщающих работах по истории России и российского крестьянства, где, казалось бы, никак нельзя обойтись без изложения концепции эволюции общины, до последнего времени этот вопрос также тщательно обходился. Например, в фундаментальной обобщающей монографии Б. Д. Грекова (1882–1953) «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века» (Греков 1952) община после периода Киевской Руси вообще исчезает из изложения.
Неким этапом в освещении интересующего нас вопроса можно считать коллективный труд советских историков 1950-х гг. «Очерки истории СССР. Период феодализма». В нем с XIV по XVII в. существование общины лишь декларируется и ничего не говорится о том, какую форму она имела. В томе, посвященном XVII в., мы читаем: «По челобитьям отдельных крестьян владелец мог отдать распоряжение о переверстании земли, убавке тягла, представлении льготы, но не снимал ответственности с “мира” за то, чтобы “збавочное тягло впусте не было” и чтобы общая сумма повинностей не уменьшалась – “только бы из <...> денежного збору из окладу не убыло ничего”» (Очерки… 1955: 174). Следовательно, факты, на которых базировались в свое время Н. П. Павлов-Сильванский и другие, не отрицаются, но и не делается вывода о возникновении переверсток и переделов.
В I четверти XVIII в. «наделение помещичьих и монастырских крестьян землей и переверстка их земельных участков в небольших имениях осуществлялись самим феодалом или его приказчиком. В более крупных имениях в Великороссии мирская община принимала обычно участие в распределении и перераспределении надельной земли» (Там же: 158). И никакого вывода о возрастании роли мира и о самом распространении переверсток.
Наконец, в следующем томе находим формулировку, показывающую, что для авторов ясны те выводы, которые я делал за них выше: «Общинное землепользование, связанное с переделами полей через то или другое количество лет, было преобладающим в центральной России уже (! – Л. А. ) в половине XVIII в. Оно было здесь давно (давно – это когда? – Л. А. ) установившимся фактом, и при том не у одних помещичьих крестьян, но и в государственных, дворцовых и монастырских волостях» (выделено мной. – Л. А. ). «В барщинных имениях помещики обычно вмешивались в общинное пользование землей, предписывая часто ежегодные переделы. В оброчных имениях крестьяне в большей мере пользовались землей по своему усмотрению» (Очерки … 1957: 63).
Следующий шаг в приближении понимания русской общины к реальности был сделан в коллективной монографии 1985–1986 гг. «История крестьянства в Европе». В главе «Крестьянство на Руси» в первом томе, написанной в свое время академиком Л. В. Черепниным (1905–1977), автор излагает схему развития общины, предложенную неким И. И. Ляпушкиным (общее землевладение – переделы земли – окончательный раздел земли между общинниками; все по Марксу), а затем добавляет: «Для России это чисто умозрительное построение. Мы ничего не знаем о периодических земельных переделах, да и сомнительно, были ли они вообще» (выделено мной. – Л. А. ). К этой фразе редколлегия считает нужным сделать сноску-примечание: «Точка зрения Л. В. Черепнина подтверждается фактами: первый документально зафиксированный полный передел земель в дворцовой общине-волости относится ко второй четверти XVII в. Частичные переделы (поравнения) известны по источникам по крайней мере с начала XVII в. (ссылка на издания документов. – Л. А. ). Не исключено, что поравнения вошли в практику в ряде областей страны еще ранее – с первой половины – середины XVI в.» (Удальцова 1985: 327). Поражает, что редакция сочла необходимым подкрепить мнение академика (который, правда, к тому времени умер), поскольку оно противоречило общепризнанной догме. И, конечно, крайне любопытно, что эта сноска фактически дословно повторяет вывод Н. П. Павлова-Сильванского, сделанный примерно 80 лет тому назад.
Во втором томе авторами главы о России названы Л. В. Черепнин и В. Д. Назаров. Видимо, изначальный текст Черепнина готовил к печати Назаров. Здесь об общине почти ничего не сказано. По интересующему нас вопросу сообщается только, что в XIV– XVI вв. преобладала «починковая колонизация», «малодворные новые поселения (1–3 двора)», регулирование поземельных отношений происходило на основе «принципа потомственно-подворного владения усадьбой, пахотным наделом и частью угодий» (Она же: 253, 280). Понятно, что землевладение подворное, а не общинное. Но в этом случае почему «надел»? Кто наделяет? Как определяется размер «надела»? Ведь здесь же говорится, что все это происходило на основе «принципа первого трудового освоения», то есть методом захвата.
В главе, посвященной Руси XVI – середины XVII вв., написанной уже В. Д. Назаровым единолично, четко и ясно говорится: «С рубежа XVI–XVII вв. известны достаточно многочисленные факты частичных поравнений тягла и надела, во второй же четверти XVII в. появляются и первые уравнительные переделы». Указано также (в главе, посвященной проблеме общины во всей Европе), что границами общины были границы поместий (Удальцова 1986а: 451, 489) .
В третьем томе главу о российском крестьянстве писал В. А. Алек-сандров. Из нее совершенно ясно, что в XVI–XVIII вв. сельская община была «инкорпорирована в феодальную общественную систему», размеры сельских общин «стали определяться границами частнофеодальных владений», «положение сельской общины определялось нормами права, устанавливаемыми самими владельцами», оно «зависело от личных взглядов помещиков». «Общинная организация была превращена в придаток вотчинного управления». Подтверждается также то, что было известно о возникновении общины в Сибири и о переходе от долевого землевладения к уравнительному на Севере (Она же 1986б: 338–340, 343), о чем мы уже знаем по работам конца XIX – начала XX в.
Авторы вышедшей уже в период перестройки обобщающей работы («История крестьянства России») решили обойтись умолчанием. Рассказав об общине в доисторические времена, когда о ней по сути ничего не известно (т. I); сообщив о верви в киевский период и о закрепощении крестьянства в последующие века (т. II), они совершенно умалчивают проблемы общины в то время, когда она наиболее известна и изучена.
Таким образом, можно утверждать, что история общины в России в период Средневековья и раннего Нового времени явно не укладывается в схему постепенного ее разложения и вызревания частной собственности. И это достаточно известно в среде специалистов. Однако внятного изложения судьбы этого института не предлагается. Поэтому в профанной среде, включающей видных философов и политиков, все это неизвестно. Они продолжают ссылаться на исконный коллективизм российского крестьянства, который будто бы определяет ментальность русского человека.
Теперь вернемся к более общему вопросу: как следует рассмотрим сельскую общину, существовавшую во многих странах в Средние века и Новое время. Истоки наиболее распространенного в настоящее время взгляда лежат в первой половине ХIХ в., когда был создан и получил распространение «историко-сравнительный метод» и выступавший в качестве его дополнения «метод переживаний ».
Сравнивая институты разных народов или выделяя в праве одного народа более новые и древние черты, историки получили возможность судить о давно исчезнувших порядках. Маркс был на уровне науки своего времени, и потому придерживался такого взгляда. Для него «община» была несомненным первобытным институтом и пережитком первобытности в современном ему обществе.
Вслед за Гегелем Маркс был уверен, что страны Азии не вышли из состояния первобытности, которое он первоначально окрестил «азиатским способом производства» . эта концепция опиралась на два «устоя» – восточная деспотия плюс община (по типу индийской). В рукописях он прямо отождествляет «азиатскую общину» с «первобытным коммунизмом» (Маркс, Энгельс 1955–1981: т. 26, III: 439). В его представлении общинный строй был исходным пунктом человеческой истории, и потому он должен был существовать и в Европе до возникновения античного общества с его рабовладением. При этом его представления о типах общин и, самое важное, о характере германской общины существенно менялись. Этого не учитывают те, кто пытается проанализировать взгляды Маркса на общину, объединяя его рукопись «Формы, предшествующие капиталистическому производству» (1857/58 гг.) и наброски письма В. Засулич (1881 г.).
В «Формах, предшествующих капиталистическому производству» он утверждает, что германская община была лишь «объединением», «самостоятельные субъекты которого являются собственниками земли», «община существует только во взаимных отношениях друг к другу по случаю войны, для отправления религиозного культа, разрешения тяжб и т. д.» (Там же, т. 46, I: 470, 472). Маркс при этом опирался на тогдашнюю немецкую историческую литературу, прежде всего на труды Георга Вайца (1813–1886). В набросках же письма к В. Засулич он исходит из того, что в Германии некогда существовала община с общим хозяйством, а затем община с переделами земли.
Из набросков письма также явствует, что Маркс объединял индийскую общину XIX в., русскую общину того же времени и германскую общину I–V вв. в единый тип, единую стадию развития, в «последний этап или последний период архаической формации», «новейший тип архаической общественной формации», «последнее слово архаической общественной формации» (Там же, т. 19: 493, 404, 418; см. также: т. 12: 713; т. 32: 158). В 1882 г. в Предисловии к русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» Маркс и Энгельс пишут, что «русская община – эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей» (Там же, т. 19: 305), то есть принимают за первобытную форму крепостную общину в центральной России XVII–XIX вв.
Эти взгляды сформировались под влиянием трудов Г. Л. Маурера (1790–1872) (Маурер 1880), основателя так называемой «марковой» или «общинной» теории возникновения феодализма в Германии. Маурер был своего рода аналогом российских славянофилов . Подобно тому, как славянофилы искали элементарную клеточку «славянского духа», так Маурер хотел обнаружить начала «германского духа». Маркса же в его сочинениях заинтересовало совсем другое. 14 марта 1868 г. он пишет Энгельсу, что «штудировал <…> новейшие сочинения старика Маурера» и убедился, что «выдвинутая мной точка зрения о том, что азиатские или индийские формы собственности повсюду в Европе (выделено мной. – Л. А. ) были первоначальными формами, получает здесь (хотя Маурер ничего об этом не знает) новое подтверждение» (Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 32: 36).
«Один из типов, который принято называть земледельческой общиной , и являет собой русская община . Ее эквивалент на Западе – германская община , возникновение которой относится к весьма недавнему времени. Она еще не существовала в эпоху Юлия Цезаря и уже не существовала, когда германские племена покоряли Италию, Галлию, Испанию и т. д.» (Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 19: 417). Причем он доходит до полного отрицания какой-либо важной специфики первой: «Русские тем самым окончательно теряют право притязать на оригинальность даже в этой области. То, что у них остается еще и сейчас, должно быть сведено к формам, давно отброшенным их соседями» (Там же, т. 32: 36). В русской общине, по мнению Маркса, «все абсолютно, до мельчайших деталей , тождественно с древнегерманской общиной» (Там же, т. 32: 158; см. также с. 541 там же). Конечно, вызывает смущение то, что Маркс, оказывается, знал «мельчайшие детали» устройства русской и германской общин, которые в то время были никому не известны, да и сейчас известны слабо.
После знакомства с работами Маурера у Маркса выстроилась стройная лестница общинных форм, которые он группирует в три основных:
1) кровнородственная община, ведущая общее хозяйство;
2) «земледельческая» или «сельская» община, в которой дом и двор становятся частным владением земледельца, а пахотная земля периодически переделяется между членами общины, и, наконец,
3) «новая община» (марка), в которой «пахотная земля является частной собственностью земледельцев, в то время, как леса, пастбища, пустоши и проч. остаются еще общей собственностью». «Она на протяжении всего средневековья была единственным очагом свободы и народной жизни». Ее появление отмечается Марксом только у германцев. Русская, индийская и другие виды общин до этой стадии не дошли (Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 19: 402, 413, 417, 418).
Понятно, что Маркс не мог не отреагировать на выводы «государственной школы», которые разрушали его концепцию. В письме к Н. Ф. Даниельсону 22 марта 1873 г. он просит сообщить ему подробно о взглядах Б. Н. Чичерина и высказывает следующее предварительное мнение: «Вопрос о пути, которым эта форма собственности (общинная. – Л. А .) образовалась (исторически) в России, является, конечно, второстепенным и не имеет ничего общего с вопросом о значении этого института. Однако немецкие реакционеры, вроде берлинского профессора А. Вагнера и др., используют это оружие, предоставленное в их распоряжение Чичериным. В то же время все исторические аналогии говорят против Чичерина. Как могло случиться, что в России этот институт был введен просто как фискальная мера, как сопутствующее явление крепостничества, тогда как во всех других странах этот же самый институт возник естественным путем и представлял собой необходимую фазу развития свободных народов?» (Там же, т. 33: 482).
В таких условиях пришлось работать советским историкам России. Нужно было все выводы согласовывать с общинной «триадой» Маркса, а также считать, что «общинная теория» Маурера – это «одно из достижений буржуазной историографии 19 в.» (СИЭ 1967: 425; БСЭ 1974: 256). Выше мы уже видели, как справлялись с этой задачей советские русисты. Но германская община в мауреровско-марксовом понимании продолжала, как туча, висеть над всеми советскими исследователями этого вопроса. Очень тонко и остроумно подметил эту ситуацию А. Л. Шапиро: «Как видим, в историографии сложилось парадоксальное положение, когда историки Западной Европы восполняют недостаток сведений об уравнительных переделах, привлекая без достаточных оснований позднейший русский материал, а историки СССР восполняют отсутствие сведений о переделах в древней Руси, привлекая без достаточных оснований материал западноевропейский» (Шапиро 1976: 46).
Часто в литературе встречается утверждение, что Маурер «восстановил», «реконструировал» древнюю германскую общину-марку. Но древнюю общину он реконструировать не мог, потому что не имел для этого достаточного материала. Как обстоит дело с фактической стороной так называемой «общинной теории»? Он опирался на три, как ему казалось, прочных свидетельства: 1) упоминания в трудах Юлия Цезаря и Тацита об отсутствии частной собственности на землю среди германских племен и о переделах земли, 2) сохранившиеся до XIX в. долевые переделы в Рейнской области (так называемые гехёфершафтен ) и 3) кое-где прослеживаемые старые межи, нарезающие равные участки земли. Все эти опоры оказались обманчивыми.
Сомнение в том, что Тацит говорит о переделах земли, высказанное Ковалевским и поддержанное Энгельсом (Маркс, Энгельс 1955–1981, т. 21: 140), стало теперь общепризнанным.
Общины с переделами земли, наблюдавшиеся в XVIII–XIX вв. в Рейнской области (гехёфершафтен), как оказалось, не имеют никакого отношения к древности. Как доказал К. Лампрехт, они возникли не ранее XIII в. на землях, выделенных феодалами для «новопоселенцев». «Лампрехтовская трактовка происхождения трирских подворных общин была постепенно признана большинством историков», – пишет ученый, как раз отстаивавший «общинную теорию» (Данилов 1958: 188). Кроме того, передел в гехёфершафтен был долевым, то есть основанным на частном праве на долю в земле и других угодьях (как на российском Севере), то есть, строго говоря, не переделом, а обменом участками без изменения их величины.
Наконец, равенство участков общинников, прослеживаемое по старым межам в ХIХ в., не могло быть наследием первых веков н. э. Это были следы процесса, шедшего во многих странах Европы в Средние века – упорядочения податей и соответственно крестьянского землепользования в феодальных владениях. Система равновеликих крестьянских участков создается в период развитого феодализма повсюду – выть , обжа в России; манс, гуфа в Германии, виргата в Англии и т. д. Размер их диктовался как возможностями крестьянского хозяйства, так и интересами феодальной эксплуатации. Крестьянская семья могла наделяться одним таким участком или его половиной, четвертью и т. д. – и несла соответствующую долю податей. Наделение могло производиться общиной (маркой, как мы привыкли ее называть), но оно было в интересах прежде всего владельцев феодов и маноров, а не самих крестьян. Это был аналог подушевого наделения землей помещичьих крестьян в России.
Немецкие историки конца ХIХ – начала ХХ в. А. Гальман-Блюменшток, Р. Гильдебрант, В. Виттих, Ф. Гутман, К. Рюбель критиковали общинную теорию с разных теоретических, но сходных методических позиций. Все они выступали за преимущественное внимание к фактам, против искусственных логических конструкций, за осторожное использование метода сравнений и т. п.
В начале ХХ в. стремление детально разобраться в истории общины в период средних веков породило серию монографий Ф. Варрентрапа, Г. Шотте, Т. Ильгена, К. Лампрехта по истории аграрного строя в отдельных областях Германии. Эти работы наиболее богаты материалом. Они окончательно установили, что критики общинной теории были в целом правы.
Представители немецкой историографии конца ХIХ – начала ХХ в. пришли, несмотря на сохранение разных точек зрения, к выводу, что раннесредневековая община в Германии была слабой, аморфной, плохо прослеживаемой организацией. Лишь около ХII в. община-марка полностью развивается, создаются характерные для нее сервитуты, принудительный севооборот, чересполосица, система открытых полей и т. п. Благодаря этим работам было серьезно подорвано мнение о непосредственном происхождении марки от первобытной общины.
Но в нашей стране результаты этой исследовательской работы не нашли отклика, потому что за «общинной теорией» и Маурером стояли Маркс и Энгельс, опровергать которых было не принято. Всякая попытка указать на позднее происхождение общинных порядков вызывало обвинение в «апологетике частной собствен-ности».
Обратимся к монографии А. И. Неусыхина (1898–1969), которая считается у нас классической в изучении истории крестьянства и общины в Германии в Средние века, и посмотрим, какие методы использовались в то время для обоснования концепции, не имеющей фактологической основы.
А. И. Неусыхин берет за основу исследования схему развития общин, выдвинутую Марксом в черновиках письма к В. Засулич, однако вынужден внести в нее ряд изменений. Единый тип передельной общины, которую Неусыхин называет «земледельческой», он делит на два этапа. Первый из них, в соответствии с определением Маркса, характеризуется переделами земли. На втором этапе, по Неусыхину, переделы земли прекращаются; наряду с патриархальной семьей все большее значение приобретает индивидуальная семья; появляется право наследования недвижимости (но еще только сыновьями). При этом автор дважды честно признается, что о первом этапе, когда должны были быть переделы, он ничего не знает: «Никаких следов этих переделов нет уже в Салической правде» (Неусыхин 1956: 103); «Уравнительные переделы пахоты и лугов уже прекратились (на них в Правде нет ни одного намека)» (Там же: 89). Последнее заявление особенно поразительно. Автор знает , какие были переделы (уравнительные) и что именно делилось (пахота и луга), хотя не имеет на все это ни одного намека .
Далее, согласно схеме Неусыхина, должен наступить этап «земледельческой общины» без переделов, но с общинной собственностью на землю. Доказательствами общинной собственности служат отсутствие в Салической правде упоминаний о продаже земли и о существовании завещаний, а также умолчание по поводу того, кому переходила земля после смерти хозяина, не имевшего сыновей. «Само собой разумелось, что он (участок. – Л. А .) переходил к сородичам» (Там же: 115). Таким образом, отсутствие данных восполняется мнением исследователя. Казалось бы, ясно, что отсутствие признаков частной собственности не свидетельствует о наличии общинной. Если у частных владельцев нет права распоряжения землей, то еще требует доказательства, что община имела эти права.
По словам Неусыхина, «конкретным выражением» собственности деревни на всю свою территорию служило «право каждого жителя деревни участвовать в разрешении или запрещении доступа в виллу нового поселенца» (Неусыхин 1956: 124). Как же реализовалось это право? Новоприходец может поселиться в вилле и обрабатывать землю, если никто не возражает против этого, а если ни один человек не выступит с протестом в течение года и одного дня, пришельца изгнать уже нельзя и он получает все права жителя деревни (Там же: 88–89). Как видим, не община как коллектив принимает или отвергает поселенца, а некий индивидуум. Это говорит скорее о слабости и неразвитости общинного духа, об отсутствии представления о вилле и ее угодьях как о едином целом. Кстати, речь в данном случае (Салическая правда XLV: 1–3) идет не о деревне, а о вилле в значении отдельного дома.
То, что схема эволюции германской общины по Неусыхину не имеет твердого фактического обоснования, стало ясно советским медиевистам довольно давно. Но магия имени А. И. Неусыхина (учителя многих из медиевистов того времени) и марксистское понимание общины как первобытного института не позволили сказать об этом открытым текстом. В коллективной монографии «История крестьянства в Европе» редколлегия сохранила в первом томе главу, написанную А. И. Неусыхиным задолго до публикации, где излагалась, естественно, его концепция. Но редколлегия сочла необходимым предварить эту главу другой, написанной А. Я. Гуревичем, в которой была изложена альтернативная точка зрения. В одной книге оказались рядом две главы, излагающие совершенно по-разному одну и ту же проблему.
А. Я. Гуревич обращает внимание на то, что римские источники, касающиеся социального устройства германцев («Записки» Цезаря и «Германия» Тацита), не могут служить надежными источниками беспристрастных сведений, что они противоречат археологическим данным. Эти последние свидетельствуют, что германские племена вели оседлый образ жизни, занимались главным образом земледелием и стойловым животноводством, жили чаще всего в хуторах, состоявших из нескольких семей или даже в отдельных усадьбах, имели постоянные права на определенный участок земли. Никаких следов переделов земли в ранних источниках нет. И в период Меровингов тоже «германская община <…> представляла собой пока еще рыхлую и слабо оформленную организацию, если сравнивать ее с общиной классического и позднего средневековья» (Удальцова 1985: 131, см. также с. 97–104).
Во втором томе, посвященном X–XVI вв., есть две главы о немецком крестьянстве. В одной из них упомянута «община-марка», ей посвящено несколько общих фраз, но больше о ней ничего не сказано: ни о наделах, ни о принудительном севообороте, ни о системе «открытых полей» – институтах, которые обычно приводятся как свидетельство общинной собственности на землю (Она же 1986а: 174). Правда, эти институты упомянуты в специальной главе, посвященной крестьянской общине (Там же: 477). Более того, здесь говорится, что она «оформилась как административно-правовой институт» именно «на первом этапе» развитого феодализма», то есть, по периодизации авторов проекта, в X–XIII вв. Отнюдь не раньше. Ее первобытное происхождение нигде не педалируется. В параграфах, посвященных отдельным странам, в этой главе уточняется, что общины в Северной и Центральной Франции «конституировались» в XII–XIII вв. (Там же: 483), в Северной и Средней Италии – в XI–XII вв. (Там же: 485).
Но результаты исследовательской работы отечественных медиевистов не доходят до научной и иной общественности. В учебном пособии, изданном в 2012 г. и предназначенном для бакалавриата, снова излагается версия Маурера – Маркса – Энгельса – Неусыхина: «Во времена Цезаря германцы жили так называемыми кровнородственными общинами», а во времена Тацита «германцы перешли к новой форме общины, которая получила в науке название земледельческой». Автор «учитывает» последние выводы науки («Свидетельства Цезаря опровергаются археологическими данными»), однако тут же их дискредитирует («Едва ли допустимо ставить под сомнение слова Цезаря») (Колесник 2012: 19, 20). Таким образом, историографический спор по поводу возникновения германской общины продолжается. И если студентов будут учить по-прежнему, то надежд на освещение этого вопроса на основе фактических данных не останется.
Мы постарались разомкнуть «закольцованную» проблему (Германия доказывает существование общины в раннесредневековой России, а Россия доказывает существование общины в раннесредневековой Германии) и показать, что концепция первобытного происхождения крестьянской общины и ее неуклонного разложения в Средние века не имеет фактической основы, является результатом логических размышлений и построений.
Каждая страна и община в ней имеют свою историю. Община может разрушаться, исчезать, возрождаться, укрепляться и т. п. в зависимости от исторических условий, в которые поставлена. Она бывает нужна крестьянам, чтобы выжить, и помещикам, в сущности, для той же цели. Никакому нормальному помещику не хочется, чтобы его крестьяне умирали или разбегались. А еще она бывает нужна государству, чтобы организовать и упорядочить сбор налогов и податей. Земельные переделы бывают разного типа, они появляются там и тогда, когда в них возникает нужда. При этом нет ни одного примера коллективного хозяйства или переделов земли на этапе ранней земледельческой общины .
Все это определяет траекторию эволюции общины. Она сама со временем начинает многое определять. Если крестьян 300 лет держать в крепостном состоянии без права собственности и без права владения на конкретный участок земли, а потом, освободив от крепостничества, опять не дать им свободы распоряжаться землей и законодательно закрепить общину, а затем снова отобрать землю, угнать хозяйственных мужиков в Сибирь и превратить крестьян в колхозников, то очень возможно в результате получить человека, не стремящегося к частной собственности и преисполненного «общинностью».
Возникает еще один вопрос: допустимо ли называть одним словом («община») совершенно разные по функциям институты. Но против устоявшегося словоупотребления идти трудно.
Литература
Алаев, Л. Б. 2009. Всеобщая история от Леонида Сергеевича. Восток 2: 209–220.
Александров, В. А. 1976. Сельская община в России (XVII – начало XIX в.). М.: Наука.
БСЭ – Большая советская энциклопедия. Т. 18. М.: Советская энциклопедия, 1974.
Горский, А. А., Кучкин, В. А., Лукин, П. В., Стефанович, П. С. 2008. Древняя Русь: очерки политического и социального строя. М.: Индрик.
Греков, Б. Д. 1952. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. Кн. I–II. М.
Данилов, А. И. 1958. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца ХIХ – начала ХХ в. М.
Данилова, Л. В. 1994. Сельская община в средневековой Руси. М.
Ефименко, А. Я. 1884. Исследования народной жизни. вып. 1. Обычное право. М.
Индова, Е. И. 1955. Крепостное хозяйство в начале XIX века. По материалам вотчинного архива Воронцовых. М.
Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России барона Августа Гакстгаузена. Т. 1. М., 1870.
Удальцова, З. В. (гл. ред.)
1985. Т. 1. Формирование феодально-зависимого крестьянства. М.: Наука.
1986а. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого феодализма. М.: Наука.
1986б. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 3. Крестьянство Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических отношений. М.: Наука.
История крестьянства в России. С древнейших времен до 1917 г. Т. I–III. М.: Наука, 1987–1993.
Кауфман, А. 1907. К вопросу о происхождении русской земельной общины. Русская мысль 10, 11, 12.
Кауфман, А. А. 2011. Русская община в процессе ее зарождения и роста. 2-е изд. М.: ЛИБРОКОМ.
Ковалевский, М. М. 1939. Очерк происхождения семьи и собственности. М.
Коган, Э. С. 1960. Очерки истории крепостного хозяйства по материалам вотчин Куракиных второй половины XVIII века. М.
Колесник, В. И. 2012. История западноевропейского Средневековья: уч. пособ. Ростов н/Д.: Феникс.
Ленин, В. И. 1965–1975. Полное собрание сочинений . 5-е изд. М.: Изд-во полит. лит-ры.
Маркс, К., Энгельс, Ф. 1955–1981. Сочинения. 2-е изд.: в 50 т. М.: Госполитиздат.
Маурер, Г. Л. 1880. Ведение в историю общинного, подворного, сельского и городского устройства и общественной власти. М.
Милюков, П. Н. 1900. Очерки по истории русской культуры. 4-е изд. СПб.
Неусыхин, А. И. 1956. Возникновение зависимого крестьянства как класса феодального общества в Западной Европе VI–VIII вв. М.
Новосельский, А. А. 1929. Вотчинник и его хозяйство в XVII веке. М.; Л.
Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. М., 1954.
Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII в. М., 1955.
Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти XVIII в. Народы СССР в первой половине XVIII в. М., 1957.
Павлов-Сильванский, Н. П.
1910. Феодализм в удельной Руси. Спб.
1988. Феодализм в России. М.: Наука.
Петрикеев, Д. И. 1967. Крупное крепостное хозяйство XVII в. (по материалам вотчины боярина В. И. Морозова). Л.
Плеханов, Г. В. 1925. Сочинения. Т. II. Л.; М.
Полтаранин, И. А. 1977. Проблема общины в трудах А. А. Кауфмана. Крестьянская община в Сибири XVII – начала XX в. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение.
Семенов, Ю. И.
1979. О стадиальной типологии общины. Проблемы типологии в этнографии. М.
1993. Экономическая этнология. Первобытное и раннее классовое общество. Ч. II. М.: ИЭА РАН.
СИЭ – Советская историческая энциклопедия. Т. 10. М.: Советская энциклопедия, 1967.
Соколовский, А. Н. 1877. Очерк истории сельской общины на севере России . СПб.
Чичерин, Б. Н. 1856. Обзор исторического развития сельской общины в России. М.
Чичерин, Б. 1858. Опыты по истории русского права. М.
Шапиро, А. Л. 1976. Проблемы генезиса и характера русской общины в свете новых изысканий советских историков. Ежегодник по аграрной истории. Вып. VI. Проблемы истории русской общины . Вологда.
Сочинение Августа Гакстгаузена о путешествии по России, изданное в Германии в 1847 г., вышло позднее в русском переводе (см.: Исследования… 1870).
В то время считалось, что кочевое скотоводство – более древняя форма хозяйствования, чем оседлое земледелие.
Эта формулировка появилась в увлечении полемикой. Сам Кауфман ее не подтверждает. Он признает, что в Сибири для апроприации «гладких земель», подъем которых легок, «захвата» недостаточно. Требуется еще их фактическое использование. В противном случае они считаются ничейными. «Чистый» же захват признается источником права, только если он сам связан с затратой труда (опахивание, демаркация, лесные завалы и т. п.).
Концепция возникновения общины А. А. Кауфмана изложена также в монографии 1908 г., которая недавно была переиздана (см.: Кауфман 2011)
Их иногда различают потому, что одни будто бы возникли путем разделения большой патриархальной семьи, а вторые – путем сселения нескольких неродственных семей. Но «предыстория» общины не всегда достоверно известна, а по существу обе ситуации вызывали к жизни один и тот же тип переделов.
До нее этой проблемой занимался А. Н. Соколовский (1877). Однако он не смог преодолеть изначальную народническую установку на исконность общинных порядков и потому не сумел вскрыть специфику северной общины.
Этот крик души А. Я. Ефименко был вызван не только «общинными» проблемами. В течение практически всего XIX в. российские интеллектуалы находились под сильным влиянием немецких мыслителей (Л. Фейербаха, Г. В. Ф. Гегеля, Л. Бюхнера, а также К. Маркса и др.).
За исключением «четвертного землевладения», развившегося также очень поздно из вотчинных владений однодворцев.
Даже это допущение Павлова-Сильванского недавно было опровергнуто. В. А. Кучкин доказал, что «сотские» и «тысяцкие», которые считались общинными старостами и потому служили доказательствами существования общины в средние века, на самом деле появляются только в конце X в. с развитием княжеского хозяйства. Они назначались князем и обеспечивали функционирование его хозяйства (Горский и др. 2008).
В качестве примеров: Новосельский 1929; Индова 1955; Коган 1960; Петрикеев 1967; Александров 1976.
Это очень важно подчеркнуть. Я в данном случае из экономии места не привожу многочисленных материалов, свидетельствующих о том, что границы крепостной крестьянской общины являлись границами поместий и вотчин. Именно помещики сселяли крестьян из однодворных и других мелких поселений в деревни, где и учреждали общину. Это еще один серьезнейший факт, противоречащий идее об исконности той общины, которую мы наблюдаем в XVIII – начале XX в.
Я уже писал о том, чем был «азиатский способ производства» для К. Маркса, и приводил соответствующие цитаты (Алаев 2009: 211). Здесь нас интересует только его понимание института общины.
На самом деле она так не называлась.
Мы не будем здесь касаться того большого теоретического спора о происхождении русской крестьянской общины, который велся в течение десятилетий. Было естественно и вполне соответствует общему направлению теперешней буржуазной науки, враждебной первобытному коммунизму, что «открытие» русского профессора Чичерина в 1858 году, согласно которому земельная община в России вовсе не является естественным историческим продуктом, а явилась лишь искусственным следствием фискальной политики царизма, встретило у германских ученых всеобщее одобрение. Чичерин дает нам новое доказательство того, что либеральные ученые в качестве историков еще менее пригодны, нежели их реакционные коллеги. В то время как и в Западной Европе со времени Маурера окончательно оставлена теория так называемого индивидуального расселения, в результате которого лишь в XVI и XVII веках якобы возникли общины, Чичерин принимает для России эту гипотезу. При этом Чичерин выводит общинную обработку и обязательный севооборот из чересполосицы наделов, общинное землевладение-из пограничных споров, общественно-правовые функции общины-из круговой поруки за подушный налог, введенный в XVI в.,-одним словом, он весьма либерально ставит вверх ногами всю цепь исторических событий, причины и следствия. Но какого бы мнения ни придерживаться относительно происхождения крестьянской общины в России и ее давности, во всяком случае надо признать, что она сохранилась втечение всей длинной истории крепостничества и даже после отмены его вплоть до последнего времени. Здесь нас интересуют лишь ее судьбы в XIX веке.
Когда царь Александр II проводил свое так называемое «освобождение крестьян», помещики продали крестьянам, совсем по прусскому образцу, их собственную землю. Помещики получили приэтом от казны за самую худшую землю, им якобы принадлежавшую, большой выкуп в ценных бумагах, на крестьян же за эту «пожалованную» землю был возложен долг, в размере 897 млн. рублей, который должен был быть возвращен казне из 6% выкупными платежами втечение 49 лет. Но эта земля не была предоставлена отдельным крестьянским семьям в частное владение, как в Пруссии, а дана была (целым общинам в общественное владение без права продажи и залога ее. На общину возлагалась круговая порука за выкупные платежи и все налоги, но она была приэтом свободна в распределении налогов между отдельными членами. Такие порядки были заведены на крестьянских землях необъятной Великороссии. В начале 90-х годов все землевладение в Европейской России (кроме Польши, Финляндии и области Войска Донского) распределялось следующим образом: казенные земли, состоявшие главным образом из огромных лесных пространств севера и пустошей, охватывали 150 миллионов десятин, удельные земли-7 миллионов десятин, монастырские и городские земли-не менее 9 миллионов десятин; частное землевладение составляло 93 миллиона десятин, из которых лишь so/o принадлежало крестьянам, а все остальное дворянству; 131 миллион десятин находился в общинном владении крестьян. Еще в 1900 г. 122 миллиона десятин в России принадлежали крестьянским общинам и лишь 22 миллиона находились в частном владении крестьян.
Если присмотреться к хозяйству русского крестьянства па этой огромной площади, как оно велось до недавнего времени, а отчасти еще и теперь, то в нем легко можно узнать типичные черты общинного союза, какие можно было во все времена наблюдать как в Германии, так и в Африке, как у берегов Ганга, так и в Перу. Пашня была разделена, между тем как лее, луга и воды представляли из себя общее владение (альменду). При всеобщем преобладании примитивной трехпольной системы как яровые, так и озимые поля делились по качеству земли на участки («карты»), а участки-на отдельные полосы. Яровые участки распределялись обычно в апреле, а озимые-в июне. Вследствие тщательного соблюдения равномерного распределения земли чересполосица так развилась, что в Московской губ., например, в среднем, яровое и озимое поля распадались на 11 участков, так что каждый крестьянин должен был обрабатывать, по крайней мере, 22 разбросанных полосы. Община обычно выделяла участки, которые обрабатывались для чрезвычайных нужд общины, или же она устраивала для той же цели запасные амбары, куда отдельные члены вносили зерно. Забота о техническом прогрессе хозяйства сводилась к тому, что каждая крестьянская семья могла пользоваться втечение 10 лет своим наделом, с обязательством его удобрять, или же в каждом участке предварительно выделялись полосы, которые удобрялись и распределялись лишь раз в 10 лет. Такому же распорядку подлежали, большей частью, льняные поля, сады и огороды.
Община, т. е. сельский сход, распределяла луга и выгоны для общинных стад, нанимала пастухов, строила изгороди, организовывала охрану полей, устанавливала систему обработки, сроки отдельных полевых работ, сроки и способ переделов. Что касается частоты переделов, то тут наблюдалось большое разнообразие. В одной Саратовской губ., например, в 1878 году из 278 обследованных деревень почти половина производила передел ежегодно, а остальная половина-каждые 2, з, 5, 6, 8 и 11 лет, в то время как тридцать восемь общин, применявших удобрение, вовсе не производили переделов.
Самое замечательное, в русской сельской общине, это-способ распределения земли. Здесь господствовал не принцип равных наделов по жребию, как у древних германцев, и не принцип размеров потребностей данной семьи, как у перуанцев, а единственно лишь принцип податной способности. Налоговые интересы казны определяли со времени «освобождения крестьян» всю жизнь деревни, вокруг податей вращалось все устройство деревни. Основой Для податного обложения для царского правительства служили так называемые «ревизские души», т. е. все мужское население общины без различия возраста, как оно устанавливалось каждые 20 лет, со времени первой крестьянской переписи при Петре Великом, путем знаменитых «ревизий», вызывавших ужас в русском народе и служивших причиной того, что разбегались целые деревни.
Правительство облагало деревни по числу «ревизских душ», община же раскладывала этот общий налог по крестьянским дворам соответственно рабочей силе. И по податной способности, исчисленной таким образом, производилось распределение наде-"лов по дворам. Таким образом с 1861 года земельный надел в России рассматривался не как основа пропитания крестьянина, а как база податного обложения: надел не был благом, на которое отдельный крестьянин мог претендовать, а скорее обязанностью, которую община в порядке государственной службы возлагала на крестьянина.
Нет ничего поэтому более оригинального, как распределение земли крестьянским сходом в России. Со всех сторон можно было слышать протесты против слишком больших наделов; бедные семьи без надлежащей рабочей силы, с преобладанием женских и малолетних членов, ввиду маломощности, в порядке милости, вообще освобождались от надела, богатых же крестьян беднейшая масса крестьянства заставляла брать самые крупные наделы. Податное бремя, стоявшее в центре русской деревенской жизни, было исключительно велико. К выкупным платежам присоединялись: подушный налог, общинный налог, церковный налог, соляной налог и т. д. В 80-х годах подушный и соляной налоги были отменены, но, несмотря на это, податное бремя было так велико, что оно поглощало все хозяйственные средства крестьянства. Согласно статистическим данным 90-х годов, 70% крестьянства извлекали из своих наделов меньше прожиточного минимума, 20% были в состоянии прокармливать себя, но не имели возможности содержать скот, и лишь около 9% крестьян извлекало излишек сверх собственных потребностей и продавало его. Вот почему после «освобождения крестьян» податные недоимки стали постоянным явлением в русской деревне. Уже в 70-х годах оказалось, что при среднем годовом поступлении подушного налога 50 миллионов рублей годичная сумма недоимок составляла не менее H миллионов. После отмены подушного налога нищета русской деревни еще возросла благодаря тому, что одновременно с этим, начиная с 80-х годов, были чрезвычайно повышены косвенные налоги. В 1904 году податные недоимки составляли 127 миллионов рублей и ввиду полной невозможности их сбора и революционного брожения были сложены. Налоги не только поглощали почти весь доход крестьянского хозяйства, но вынуждали крестьян искать побочных заработков. С одной стороны, ими являлись сезонные полевые работы, которые и теперь еще во время жатвы вызывают в центральной России настоящее переселение народов, причем самые сильные мужчины из деревни отправляются в помещичьи усадьбы и нанимаются здесь в сельские рабочие, между тем как их собственные крохотные полосы обрабатываются слабыми силами стариков, женщин и подростков. С другой стороны, их манили к себе город и фабричная промышленность. Таким образом, в центральном промышленном районе образовались группы сезонных рабочих, которые к зиме уходили в города, направляясь главным образом на текстильные фабрики, чтобы весною, к полевым работам, вернуться с заработком в деревню. И, наконец, во многих местностях возникали кустарные промыслы или случайные сельскохозяйственные промыслы, как извоз и пилка дров. И при всем том большая масса русского крестьянства влачила жалкое существование. Не только плоды земледелия, но и весь побочный промышленный доход поглощался налогами. Крестьянский мир, связанный круговой порукой в отношении налогов, был наделен государством самыми строгими полномочиями по отношению к отдельным членам. Так, например, мир мог отправлять недоимщиков на наемные работы и конфисковать их заработки; он мог также отказывать своим членам в выдаче паспорта, без которого крестьянин не мог ступить шагу из деревни. Кроме того, мир мог подвергать телесному наказанию упорных недоимщиков. И русская деревня на огромном пространстве центральной России представляла время от времени любопытную картину. При прибытии налоговых экзекуторов в деревне начиналась процедура, для которой царская изобрела технический термин «выколачивание недоимок». деревенский сход, «недоимщики» должны были снять штаны, лечь на скамью, после чего прочие члены общины по очереди секли их розгами до крови. Стоны и громкий плач высеченных, в том число бородатых отцов семейств и убеленных сединами старцев, неслись вслед начальству, которое, после содеянных подвигов, мчалось на тройках с колокольчиками в другую деревню, чтобы там проделать то же самое. Нередко крестьяне спасались от публичной экзекуции самоубийством. Не менее оригинальным последствием этих условий было так называемое «налоговое нищенство»: старые, обедневшие крестьяне отправлялись по миру, чтобы собрать деньги для уплаты налогов. Эту общину, превращенную в пресс для выжимания налогов, государство строго охраняло. Закон 1881 года гласит, например, что целые общины могут продавать крестьянскую землю лишь в тех случаях, когда это постановлено двумя третями крестьянских голосов, причем требовалось еще согласие министров внутренних дел, финансов и уделов. Отдельные крестьяне могли продавать даже свои собственные наследственные участки лишь членам своей общины. Крестьянам было запрещено свои земли: закладывать под ипотеки. При Александре III деревенская община лишилась совершенно своей автономии и была отдана под надзор земских начальников, напоминающих прусских ландратов. Все постановления сельского схода должны были получить утверждение со стороны этих чиновников. Земельные переделы производились под их контролем, равно как и налоговое обложение и сбор податей. Закон 1893 года делает частичную уступку духу времени и разрешает переделы лишь раз в 12 лет. Но в то жо время для выхода из общины требуется ее согласие, и предварительным условием его является выплата той части выкупных платежей, которая падает на долю выбывающего.
Вопреки всем этим искусственным законодательным рамкам, в которые была втиснута деревенская община, вопреки опеке трех министерств и целого сонма чиновников, нельзя было удержать распада общины. Тяжелое бремя налогов, развал крестьянского хозяйства вследствие побочных сельскохозяйственных и отхожих промыслов, недостаток земли, особенно пастбищ и леса, которые дворянство при освобождении крестьян большей частью захватило себе, и, наконец, недостаток земли для обработки ввиду прироста населепия,-все это вызвало в жизни деревенской общины важные явления двоякого рода: бегство в города и появление, ростовщичества в самой деревне. Поскольку земельный надел вместе с побочным доходом должны были служить лишь средством для покрытия налогов, причем крестьянин в действительности не был в состоянии достигнуть хотя бы этого, не говоря уже об удовлетворении своих даже самых насущнейших потребностей,-пребывание в общине обратилось для него в железную цепь, повисшую на его шее. Избавление от этой цепи стало естественным стремлением беднейшей массы членов общины. Сотни беглецов вылавливались полицией как беспаспортные бродяги и возвращались в общину, где они для примера другим подвергались своими еообщинниками сечению розгами па лавке. Но розги и паспортная система оказались бессильными против массового бегства крестьян, которые темной ночью удирали из ада своего «деревенского коммунизма» в город, чтобы окончательно раствориться здесь в море промышленного пролетариата. Другие, которым семейные и прочие обстоятельства но позволяли бежать, пытались законным путем добиться выхода из общины. Но для этого необходимо было погасить выкупной долг. И тут выручал ростовщик. Уже само бремя налогов и необходимость для их уплаты продавать зерно на самых невыгодных условиях очень рано толкнули русского крестьянина в объятия ростовщика. Периодическая нужда, неурожаи неизменна вынуждали обращаться к ростовщику.
И, наконец, самый выход из-под ярма общины в большинстве случаев был возможен лишь в том случае, если крестьянин надевал на себя ярмо ростовщика, обязуясь на неопределенный срок выплачивать ему дань или работать на него. В то время как бедные крестьяне стремились уйти из общины, чтобы избавиться от нищеты, богатые крестьяне уходили из нес, чтобы избавиться от круговой поруки за непоступление налогов от бедных крестьян. Но и в тех случаях, когда богатые крестьяне формально не выходили из общины, из них-то большею частью и рекрутировались деревенские ростовщики. Они образовывали сплоченную влиятельную группу на деревенском сходе и, пользуясь тем, что бедняки им задолжали и от них зависели, заставляли их на сходах голосовать согласно желанию богатых. Так в лоне деревенской общины, формально основанной на равенстве и общественном землевладении, ясно наметилось классовое расслоение; малочисленной, но влиятельной деревенской буржуазии противостояла зависимая и фактически пролетаризованная крестьянская масса.
И, наконец, распад общины, задавленной налогами, разъеденной ростовщичеством, внутренне расколовшейся, обнаружился и во вне. Голод и крестьянские бунты стали в 80-х годах в России периодическим явлением, беспощадно охватывающим внутренние губернии и имевшим неизбежным последствием суровые экзекуции и военные «усмирения». Русская деревня стала ареной ужасного голодного вымирания и кровавых расправ. Русский мужик испытывал горькую участь индусского крестьянина, с той лишь разницей, что вместо Ориссы местом действия здесь являлись Саратовская, Самарская и прочие приволжские губернии. Когда в 1904-1905 гг. в России разразилась, наконец, революция городского пролетариата, до того совершенно хаотические крестьянские беспорядки впервые всей своей тяжестью, как политический фактор, легли на весы революции, и аграрный вопрос стал ее центральной проблемой. Теперь, когда крестьянское движение с лозунгом земли огненной лавой залило дворянские поместья, сжигая «дворянские гнезда», когда рабочая партия сформулировала нужды крестьянства, выставив революционные требования экспроприации государственных и частновладельческих земель и безвозмездной передачи их крестьянам,-теперь лишь царизм отказался, наконец, от своей аграрной политики, которую он с железным упорством проводил втечение столетий. Общину нельзя было спасти от гибели; надо было от нее отказаться. Уже в 1902 г. пришлось отказаться от основы деревенской общины в ее специфической русской форме, а именно пришлось отменить круговую поруку за налоги. Правда, это мероприятие подготовлялось развитием финансового хозяйства самого царизма. Казна могла легко отказаться от круговой поруки за прямые налоги, после того как косвенные налоги достигли небывалых размеров. Так, напр., в бюджете 1906 года, при обыкновенном доходе в размере 2 020 миллионов рублей, лишь 148 миллионов поступили от прямых, а 1100 миллионов-от косвенных налогов, из которых 558 миллионов падало на одну лишь винную монополию, которая была введена «либеральным» министром Витте для борьбы с алкоголизмом. За аккуратное поступление этого налога самой надежной круговой порукой являлись нищета, безнадежность положения и невежество крестьянской массы. В 1905-1906 гг. оставшаяся часть выкупных платежей была вдвое понижена, а в 1907 году совсем сложена.
И «аграрная реформа» 1907 года открыто ставит себе целью укрепление мелкой крестьянской частной собственности; средством к этому должно было послужить разделение государственных и удельных земель и части крупного землевладения на мелкие участки.
Так пролетарская революция XX века даже в ее первой, незаконченной фазе сразу ликвидировала последние остатки как крепостничества, так и искусственно сохранявшейся царизмом крестьянской общины.