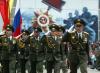Вересаев В. В . Записки врача. На японской войне . / Вступ. ст. Ю. Фохт-Бабушкина . - М.: Правда, 1986. - 560 с. Тираж 500 000 экз. Цена 2 р. 70 к.
Из предисловия: В июне 1904 года как врач запаса В. Вересаев был призван на военную службу и вернулся с японской войны лишь в начале 1906 года. М. Горький был прав: события русско-японской войны нашли в В. Вересаеве "трезвого, честного свидетеля". Об этой, по словам В. И. Ленина, "глупой и преступной колониальной авантюре" (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 155) написано в русской литературе довольно много. Только в одних сборниках "Знание", где печатались записки В. Вересаева, были опубликованы и "Красный смех" Л. Андреева, и "Путь" Л. Сулержицкого, и "Отступление" Г. Эрастова. Авторы этих произведений с гневом писали о бессмысленности и ужасах бойни, устроенной царским правительством на полях Маньчжурии, но лишь В. Вересаев увидел в бесславной для России войне свидетельство краха всей самодержавно-крепостнической системы.
Аннотация издательства: В книгу русского советского писателя В. В. Вересаева (1867-1945) включены две публицистические повести полумемуарного характера "Записки врача" и записки "На японской войне".
Они типичны для творчества писателя, и вместе с тем их роднит пафос революционных настроений, источником которого служили общественное движение в России накануне 1905 года и сама первая русская революция. В записках "На японской войне" очень сильны, кроме того, антивоенные, антиимпериалистические мотивы.
На японской войне
Ю. Фохт-Бабушкин. В. В. Вересаев и его публицистические повести
III. В Мукдене
IV. Бой на Шахе
V. Великое стояние: октябрь - ноябрь
VI. Великое стояние; декабрь - февраль
VII. Мукденский бой
VIII. На Мандаринской дороге
IX. Скитания
X. В ожидании мира
Примечания
В. В. Вересаев и его публицистические повести
Талант В. Вересаева был на редкость многогранен. Кажется, нет ни одной области литературного творчества, в которой бы он не работал. Он писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, литературный критик, публицист, переводчик. Но наиболее любимым его жанром была долгие годы публицистическая повесть полумемуарного характера, яркими образцами которой явились как раз "Записки врача" (1895-1900) и записки "На японской войне" (1906-1907). Склонность к подобному жанру не была случайной, она отразила самую суть творческих устремлений В. Вересаева.
Его называли писателем-общественником. В произведениях писателя все внимание обычно сосредоточивалось на идейных исканиях героев, а излюбленной формой повествования оказывался диалог, жаркий спор героев о жизни, о политике, о проблемах социально-экономических. Такая всепоглощающая устремленность на решение социальных проблем приводила иногда даже к тому, что философ, общественник, публицист побеждал в его творчестве художника. Произведения В. Вересаева порой привлекали внимание не столько яркостью образов и языка, тонкостью психологического рисунка, сколько остротой и глубиной постановки социальных проблем.
С этим же ярко выраженным социально-политическим пафосом его произведений связано и тяготение В. Вересаева к документально точному изображению жизни, к использованию реальных фактов, свидетелем которых он был сам или о которых слышал от близких людей. Показательно, что уже его первая повесть, "Без дороги" (1894), написанная в форме дневника героя, включила немало эпизодов из личного дневника писателя, причем с той же датой. Да и вообще большинство героев вересаевских произведений обычно имело вполне определенных прототипов.
Однако столь очевидная документальность произведений В. Вересаева объяснялась не только его нацеленностью на анализ социально-политической проблематики, но и тем, как он понимал долг писателя. Отношение В. Вересаева к литературе лучше всего пожалуй, характеризуется несколько старомодным словом - "служение". Литература была для него "дороже жизни", за нее он бы "самое счастье отдал" (31 декабря 1894 г.){1}. В ней - совесть и честь человечества. И поэтому всякий идущий в литературу возлагает на себя святую обязанность пером своим помогать людям жить лучше, счастливее. Посвятивший себя служению литературе не имеет права ни сомнительным поступком в быту, ни единой фальшивой строкой запятнать ее и тем самым скомпрометировать, поколебать к ней доверие читателей. "...Только величайшая художественная честность перед собою, благоговейно-строгое внимание к голосу художественной своей совести" дает право работать в литературе, говорил В. Вересаев много позже в лекции "Что нужно для того, чтобы быть писателем?". А по его дневнику 90-х годов видно, с каким самозабвенным упорством он воспитывал в себе эту художническую честность, так как "нужно громадное, почти нечеловеческое мужество, чтоб самому себе говорить правду в глаза" (1 апреля 1890 г.).
И действительно, во имя правды он всегда был беспощаден. "Лжи не будет, - я научился не жалеть себя" - эта дневниковая запись от 8 марта 1890 года стала одним из его главных литературных заветов. В воспоминаниях о детстве и юности, стремясь на собственном примере детально разобраться в становлении духовного мира молодого человека конца прошлого века, он не побоялся рассказать о самых интимных движениях души, о том, что редко рассказывают даже близким друзьям. В "Записках врача" смело поднял завесу над той стороной деятельности врачей, которую его коллеги относили к области профессиональных тайн. В лекции о М. Горьком, оставшейся неопубликованной, писатель говорил: "...Такова должна быть философия всякого настоящего революционера: если какое-нибудь движение способно умереть от правды, то это - движение нежизнеспособное, гнилое, идущее неверными путями, и пускай умирает!"
Испытания жизни, а они бывали суровыми, не смогли заставить В. Вересаева хоть раз сфальшивить. С полным правом он мог заявить в одном из писем 1936 года, когда большая часть пути была уже позади: "Да, на это я имею претензию, - считаться честным писателем".
Именно в силу неприятия любой фальши, "писательства", как говорил В. Вересаев, он стремился изображать в своих произведениях только то, что знал досконально. Отсюда и склонность к документализму. Нередко этот сознательно отстаиваемый им принцип встречал скептическое отношение критики, которая порой склонялась к мысли, что В. Вересаев не художник, а просто добросовестный протоколист эпохи, умеющий сгруппировать факты и в беллетристической форме пропагандирующий определенные теории. Критика явно заблуждалась. В искусстве есть два пути к правде: обобщение многочисленных фактов в вымышленном образе и выбор для изображения какого-то реального факта, однако содержащего в себе широкий типический смысл. Оба эти способа типизации достаточно ярко представлены в истории литературы, оба закономерны и оправданны. Таланту В. Вересаева был ближе второй.
Путь этот, конечно, имеет свои плюсы и минусы. Произведения такого рода, будучи художественным обобщением явлений действительности, приобретают к тому же и силу документа. Не случайно Л. Толстой и А. Чехов отметили великолепные художественные достоинства "Лизара", и одновременно В. И. Ленин в "Развитии капитализма в России" при характеристике положения русского крестьянства сослался на тот же рассказ В. Вересаева как на живую и типическую иллюстрацию.
Но эта творческая позиция В. Вересаева рождала и определенные противоречия. Досконально он, выросший в интеллигентской среде, знал ее быт и думы - интеллигенции в основном и посвящены его ранние произведения, написанные в период учебы на историко-филологическом факультете Петербургского университета (1884-1888 гг.) и медицинском факультете Дерптского университета (1888-1894 гг.), в первые годы после окончания учебы: рассказы "Загадка" (1887), "Порыв" (1889), "Товарищи" (1892), уже упоминавшаяся повесть "Без дороги" и ее эпилог "Поветрие" (1897). Однако чем явственнее обозначалась революционная ситуация в России, тем яснее молодой писатель понимал, что волнующие его социальные проблемы эпохи будет решать простой народ. Обойти его в своих исполненных социальных исканий произведениях он не мог, а художническая честность не позволяла писать о том, что знал хуже.
Попыткой преодолеть это противоречие явилась серия рассказов о крестьянстве, написанная в самом конце 90-х - начале 900-х гг. Если в произведениях об интеллигенции писатель рисовал своих героев "изнутри", используя внутренние монологи, дневниковые записи и письма, детально анализируя психологическое состояние персонажа, а зачастую и все повествование строя как исповедь героя-интеллигента, то в рассказах о крестьянстве В. Вересаев всячески набегает подобных форм. Рассказ, как правило, ведется от третьего лица, чаще всего это сам автор, "Викентьич", случайно встретившийся с человеком из народа. Тем самым подчеркивалось, что крестьяне изображаются так, как их видит и представляет себе интеллигент. Иногда В. Вересаев стремится еще больше усилить это впечатление, ставя подзаголовок - "рассказ приятеля" ("Ванька", 1900).
Причем в этих рассказах порой резко разграничивались два стилевых пласта: рассуждения автора по социально-экономическим вопросам перемежались примерами-случаями из крестьянской жизни. Поэтому рассказы нередко выглядели своего рода иллюстрациями к различным социально-экономическим тезисам марксистской теории. "Лизар" (1899) был посвящен процессу обезземеливания крестьянства, "В сухом тумане" (1899) - перераспределению сил между городом и деревней, "Об одном доме" (1902) написан в пику народникам: община - одно из средств закабаления крестьянина, одна из причин его быстрого разорения. В дальнейшем, при переизданиях рассказов, В. Вересаев сокращал публистические куски. Они были явно лишними, опасения же писателя, что он не вправе браться за художественные произведения о простом народе, - напрасными. Жизнь простого народа он наблюдал достаточно много, а его художнический глаз был зорким. И возница Лизар, "молчаливый, низенький старик", с его страшной философией "сокращения человека" ("Лизар"); и литейщик, бросивший родную деревню в поисках заработка, лишенный семьи и простого человеческого счастья ("В сухом тумане"); и герои рассказа "Об одном доме" - все они сами, без авторских комментариев, достаточно убедительно доказывали, что процесс разорения крестьянства, классового расслоения деревни идет в России стремительно, а люди искалечены.
Тем не менее писатель настойчиво ищет такой жанр, где бы, казалось, разнородные элементы - публицистика и собственно художественное описание - совместились органически. Результатом этих поисков и стала в его творчестве публицистическая повесть.
"Записки врача" и записки "На японской войне" сближает, однако, не только жанровое сходство, их роднит пафос революционных настроений, источником которого служило общественное движение в России накануне 1905 г. и сама первая русская революция. Для того чтобы понять место этих произведений в идейно-художественных исканиях В. Вересаева, нужно вернуться несколько назад - к истокам его творчества и жизненного пути.
Редкое творческое долголетие выпало на долю В. Вересаева. 23 ноября (5 декабря) 1885 года он восемнадцатилетним юношей впервые выступил в печати с художественным произведением - журнал "Модный свет" опубликовал его стихотворение "Раздумье" - и никогда уже не оставлял пера. 3 июня 1946 года, в последний день своей жизни, писатель редактировал сделанный им перевод "Илиады". Шестьдесят лет проработал В. Вересаев в литературе. И каких лет! Современник М. Салтыкова-Щедрина и В. Гаршина, В. Короленко и Л. Толстого, А. Чехова и М. Горького, он был и нашим современником, современником М. Шолохова, А. Твардовского, Л. Леонова... Крах народничества, три русские резолюции, русско-японская, империалистическая, гражданская, Великая Отечественная войны, исторические свершения социализма... Как говорил сам писатель в 1935 году на вечере, посвященном пятидесятилетию его литературной деятельности, прошлое не знало "ничего подобного тому бешеному ходу истории, подобно курьерскому поезду мчавшемуся, который на протяжении моей сознательной жизни мне пришлось наблюдать". Но, несмотря на долгую жизнь в литературе бурной эпохи социальных сломов, несмотря на многоплановость литературной деятельности, В. Вересаев - писатель удивительно цельный. Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года, он записал в дневнике: "...пусть человек во всех кругом чувствует братьев, - чувствует сердцем, невольно. Ведь это - решение всех вопросов, смысл жизни, счастье... И хоть бы одну такую искру бросить!" В. Вересаев порой менял свое отношение к тем или иным социальным силам России, подчас ошибался, но никогда не расставался с мечтой о гармоническом человеке, об обществе людей-братьев. Весь его жизненный и литературный путь - это поиски ответа на вопрос, как сделать реальностью такое общество. Борьбе за этот идеал писатель отдавал весь свой труд, свой талант, всего себя.
Мечта об обществе людей-братьев родилась еще в детстве, и первый ответ на вопрос, как ее достичь, дала семья.
Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев - это псевдоним писателя) родился 4 (16) января 1867 года в семье тульского врача, в семье трудовой, демократической, но религиозной. Его отец, Викентий Игнатьевич, воспитывал детей на лучших произведениях родной литературы, научил "читать и перечитывать" А. Пушкина и Н. Гоголя, А. Кольцова и И. Никитина, Н. Помяловского и М. Лермонтова. Проводя лето в крохотном имении родителей Владычня, В. Вересаев пахал, косил, возил сено и снопы - отец стремился привить детям уважение к любому труду, ибо считал, что "цель и счастье жизни - труд" ("Воспоминания"). Политические же взгляды Викентия Игнатьевича были весьма умеренными. Либеральные реформы и истая религиозность - вот те средства, с помощью которых, по его мнению, можно было добиться всеобщего благоденствия.
На первых порах сын свято чтил идеалы и программу отца. Его дневник и первые литературные опыты красноречиво об этом свидетельствуют. В стихах - а именно поэтом он твердо решил стать еще в тринадцать-четырнадцать лет - юный лирик звал следовать "трудною дорогой", "без страха и стыда", защищать "братьев меньших" - бедный люд, крестьянство. Жизнь будет легче, светлей и чище, когда люди станут лучше. А в моральном облагораживании людей могущественнейшими и единственными факторами являются труд и религия.
В. Вересаев уже в гимназии чувствовал безоружность своих идеалов и в дневнике мучительно размышлял над вопросом: для чего жить? Он занимается историей, философией, физиологией, изучает христианство и буддизм и находит все больше и больше противоречий и несообразностей в религии. Это был тяжелый внутренний спор с непререкаемым авторитетом отца. Юноша то "положительно отвергает всю... церковную систему" (24 апреля 1884 г.), то с ужасом отказывается от столь "безнравственных" выводов...
Полный тревог и сомнений, отправляется В. Вересаев в 1884 году учиться в Петербургский университет, поступает на историко-филологический факультет. Здесь, в Петербурге, со всей самозабвенностью молодости отдается популярным тогда в студенческой среде народническим теориям, с ними связывает надежды на создание общества людей-братьев.
Однако, как впоследствии вспоминал писатель, "в начале восьмидесятых годов окончился героический поединок кучки народовольцев с огромным чудовищем самодержавия... Самодержавие справляло свою победу... Наступили черные восьмидесятые годы. Прежние пути революционной борьбы оказались не ведущими к цели, новых путей не намечалось. Народ безмолвствовал. В интеллигенции шел полный разброд". Настроение "бездорожья" охватило ее большую часть.
Правда, в 80-е годы достигает сокрушительной силы сатира М. Салтыкова-Щедрина; своими очерками о деревне протестует против бесправия народа Глеб Успенский; усиливаются обличительные тенденции в творчестве В. Гаршина; о стремлении даже самых последних бродяг к "вольной волюшке" рассказывает В. Короленко. Но многие из тех, кто еще вчера увлекался народническими идеями, впадают в отчаяние и растерянность, отказываются от общественной борьбы, ищут забвения в поэтических грезах Н. Минского и С. Надсона, популярность которых стремительно растет.
Под впечатлением угасания народнического движения В. Вересаеву начинает казаться, что надежд на социальные перемены нет, и он, еще недавно радовавшийся обретенному "смыслу жизни", разочаровывается во всякой политической борьбе. "...Веры в народ не было. Было только сознание огромной вины перед ним и стыд за свое привилегированное положение... Борьба представлялась величественною, привлекательною, но трагически бесплодною..." ("Автобиография"). "Не было перед глазами никаких путей", - признавался писатель в мемуарах. Появляется даже мысль о самоубийстве.
С головой уходит студент В. Вересаев в занятия и пишет, пишет стихи, прочно замкнутые в круге личных тем и переживаний. Лишь здесь, в любви, думается ему теперь, возможны чистота и возвышенность человеческих отношений. Да еще в искусстве: оно, как и любовь, способно облагородить человека.
Именно в это трудное для В. Вересаева время и начался его литературный путь. Вскоре после "Раздумья" В. Вересаев обращается к прозе, первое опубликованное стихотворение было и одним из последних. "...Во мне что-то есть, но... это "что-то" направится не на стихи, а на роман и повесть", - отмечал он в дневнике еще 8 мая 1885 года. В 1887 году В. Вересаев пишет рассказ "Загадка", который как бы подвел итоги юношескому периоду творчества и свидетельствовал о начале зрелости.
На первый взгляд "Загадка" мало чем отличалась от стихов юного поэта: тот же молодой герой со своими чуть грустными, чуть нарочитыми раздумьями, не идущими дальше сугубо личного и интимного. Однако писатель не случайно именно с "Загадки" исчислял годы жизни в литературе, именно ею открывал свои собрания сочинений: в этом рассказе намечены многие мотивы, волновавшие В. Вересаева на протяжении всей его литературной деятельности. Писатель славил человека, способного силою своего духа сделать жизнь прекрасною, спорил, по сути дела, с модной тогда философией, утверждавшей, что "счастье в жертве". Призывал не терять веры в завтрашний день ("Пускай нет надежды, мы и самую надежду отвоюем!"). Правда, ему все еще казалось, что только искусство может превратить человека в Человека.
Скромный и застенчивый студент Петербургского университета становился писателем. В 1888 году, уже кандидатом исторических наук, он поступает в Дерптский университет, на медицинский факультет. "...Моею мечтою было стать писателем; а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии; кроме того, специальность врача давала возможность близко сходиться с людьми самых разнообразных слоев и укладов" - так позднее объяснял В. Вересаев свое обращение к медицине ("Автобиография"). В тихом Дерпте, вдали от революционных центров страны, провел он шесть лет, занимаясь наукой и литературным творчеством, по-прежнему охваченный мрачными настроениями.
Как и в "Загадке", в первых произведениях, последовавших за ней, тему борьбы за человеческое счастье, за большого и прекрасного человека, борьбы со всем, что мешает утвердиться такой личности в жизни, В. Вересаев решает в плане морально-этическом. Переделка общества с помощью одного лишь искусства либо морального совершенствования людей - надежда, не менее иллюзорная, чем ставка на религию. Ощущая это, В. Вересаев настойчиво продолжает поиски ответов на вопрос, почему благие порывы интеллигенции столь беспомощны, так мало способствуют созданию общества людей-братьев. И заявленная в ранних рассказах тема судеб русской интеллигенции, ее заблуждений и надежд получает новое решение - писатель заговорил об общественном "бездорожье".
"В "большую" литературу вступил повестью "Без дороги"..." Это слова из автобиографии В. Вересаева, написанной на склоне лет. Но и тогда, в 1894 году, именно с повестью "Без дороги" связывал он определение своего жизненного пути.
"Без дороги" - повесть о пережитом и передуманном. Это отповедь поколению, "ужас и проклятие" которого в том, что "у него ничего нет". "Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидно и бесповоротно...".
Повесть написана в форме исповеди-дневника молодого врача Дмитрия Чеканова, не сумевшего претворить в жизнь свои мечты о служении народу. Он отказался от научной карьеры, от обеспеченного и уютного дома, бросил все и пошел на земскую службу. Но его деятельность и деятельность подобных ему подвижников мало что меняла в положении народа, который, привыкнув ненавидеть барина, отвечал Чекановым недоверием и глухой враждебностью.
В. Вересаев отверг народническую программу создания общества людей-братьев. Но взамен ничего предложить не мог. Фраза из дневника: "Истина, истина, где же ты?.." - стала в те годы лейтмотивом его жизни. Этой мыслью он жил в Дерпте, эта мысль не оставляла его в Туле, куда он приехал заниматься врачебной практикой после окончания Дерптского университета в 1894 году; с этой мыслью он отправился в том же году в Петербург, где устроился сверхштатным ординатором в Боткинскую больницу. В. Вересаеву необходимо было найти те реальные общественные силы, которые в состоянии построить общество людей-братьев.
Набиравшее силу рабочее движение в России не могло оставаться вне поля зрения В. Вересаева, столь упорно искавшего тех, кто в состоянии построить общество людей-братьев. "Летом 1896 года вспыхнула знаменитая июньская стачка ткачей, поразившая всех своею многочисленностью, выдержанностью и организованностью. Многих, кого не убеждала теория, убедила она, - меня в том числе", - вспоминал позднее писатель. В пролетариате ему "почуялась огромная прочная новая сила, уверенно выступающая на арену русской истории".
В. Вересаев одним из первых среди крупных русских писателей поверил в революционеров-марксистов. И повесть "Без дороги" получила продолжение - рассказ "Поветрие". Наташа, которая не отставала от Чеканова с вопросом "Что мне делать?", теперь "нашла дорогу и верит в жизнь". Вместе с Наташей В. Вересаев приветствует развитие промышленности в России, вместе с нею он радуется: "Вырос и выступил на сцену новый, глубоко революционный класс".
"Поветрием" завершается второй, после юношеского, период творчества писателя. Начав в "Загадке" поиски той социальной силы, которая бы смогла построить в России общество людей-братьев, В. Вересаев к концу 90-х годов приходит к выводу, что будущее - за пролетариатом, марксизм - единственно верное учение.
"Безоговорочно становлюсь на сторону нового течения" - так писатель сформулировал в "Воспоминаниях" итоги своих исканий тех лет, определенно заявляя, что примкнул к марксистам. Из весьма достоверных мемуаров В. Вересаева и его автобиографии известно, что писатель помогал агитационной работе ленинского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса": в больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий, в его квартире "происходили собрания руководящей головки" организации, "печатались прокламации, в составлении их" он "сам принимал участие".
В эти годы активного сближения В. Вересаева с революционным пролетарским движением он и пишет "Записки врача".
Мысль написать "Дневник студента-медика", который позже вылился в "Записки врача", возникла у В. Вересаева в конце 1890 - начале 1891 года, когда писатель учился на третьем курсе медицинского факультета Дерптского университета. Однако загруженность учебой и болезнь руки не позволили тогда ему вплотную заняться книгой. Тем не менее он не оставляет своего намерения, считая, что эта книга может иметь большое общественное значение: "И вот я - врач... кончил я одним из лучших, а между тем, с какими микроскопическими знаниями вступаю в жизнь! И каких невежественных знахарей выпускает университет под именем врачей! Да, уж "Дневник студента-медика" я напишу и поведаю миру много-много, чего он не знает и о чем даже не подозревает..." (18 мая 1894 г.). Но кратковременная врачебная практика В. Вересаева в Туле (летом 1894 г.), а затем служба в Барачной больнице в память Боткина в Петербурге (октябрь 1894 - апрель 1901 года) превратили замысел "Дневника студента-медика" в книгу "Записки врача". В это время в записной книжке писателя появляются новые разделы - "Больница" и "Дежурство", - куда он тщательно записывает примечательные случаи из своей собственной практики и практики коллег-врачей.
Повесть написана от первого лица, основные вехи биографии героя почти полностью совпадают с биографией самого В. Вересаева. Его герой, как и автор, "кончил курс на медицинском факультете", затем "в небольшом губернском городе средней России" занимался частной практикой и, поняв, что для самостоятельной работы еще не подготовлен, уехал в Петербург учиться: устроился в больницу "сверхштатным". Многие рассуждения героя, эпизоды дословно переписаны из личного дневника писателя 1892 - 1900 годов. В. Вересаев прямо свидетельствовал, что в "Записках врача" отразились его личные "впечатления от теоретического и практического знакомства с медициной, от врачебной практики". Но вместе с тем и подчеркивал: "Книга эта - не автобиография, много переживаний и действий приписано мною себе, тогда как я наблюдал их у других" ("Воспоминания"). А в одном из ранних вариантов предисловия к книге обращал внимание читателя, что "в беллетристической части "Записок" не только фамилии, но и самые лица и обстановка - вымышлены, а не сфотографированы с действительности". Однако он настойчиво возражал и против восприятия "Записок врача" как чисто художественного произведения: "Сухое описание опытов, состоящее почти сплошь из цитат, занимает в моей книге больше тридцати страниц".
Органически объединяя художественные зарисовки, элементы очерка, публицистики и научной статьи, В. Вересаев развивал традиции шестидесятников, традиции народнической литературы, которая, особенно очерками Гл. Успенского, утверждала подобный синтез. Но "Записки врача" отражали качественно новый этап революционной борьбы. Да и для самого В. Вересаева повесть тоже стала новым шагом в его идейных исканиях.
"Поветрие" рассказывало о спорах марксистов с народниками. "Записки врача" - об исторической неизбежности объединения сил пролетариата и передовой интеллигенции. В "Поветрии" В. Вересаев скорее просто декларировал свою увлеченность марксистскими идеями, а его героиня Наташа чисто теоретически доказывала их истинность. В публицистической повести "Записки врача" писатель уже скрупулезно прослеживает, как сама логика жизни превращает честного и ищущего интеллигента в сторонника пролетарского движения.
В книге этой снова возникает излюбленная вересаевская тема - история "обыкновеннейшего, среднего" трудового интеллигента, история о том, как формировалось его мировоззрение. Герой-интеллигент В. Вересаева впервые изображен на столь широком фоне жизни общества царской России. Молодой врач, в поисках куска хлеба занятый частной практикой, встречается с самыми разными людьми, и встречи эти раскрывают перед ним мрачную картину бесправного положения народа, классового неравенства, деградации общества, где "бедные болеют от нужды, богатые - от довольства". Он понял, что наука, власть, закон - все на службе лишь у людей обеспеченных. Пользуясь темнотой, бесправием бедноты, врачи нередко ставят на своих пациентах чреватые смертельным исходом опыты. Но даже тогда, когда больной попадает в руки честного медика, настоящее лечение невозможно.
Страдающему от обмороков мальчишке-сапожнику Ваське врач вынужден прописывать железо и мышьяк, хотя на самом деле единственное спасение для него вырваться "из... темного, вонючего угла", каким была "мастерская, где он работает". А "прачке с экземой рук, ломовому извозчику с грыжей, прядильщику с чахоткой", "стыдясь комедии, которую разыгрываешь", приходится говорить, "что главное условие для выздоровления - это то, чтобы прачка не мочила себе рук, ломовой извозчик не поднимал тяжестей, а прядильщик избегал пыльных помещений".
Герой повести приходит к выводу, что обязанность врача "прежде всего бороться за устранение тех условий", которые делают молодых стариками, сокращают и без того короткую человеческую жизнь. Поначалу эта борьба представляется ему чисто профессиональной борьбой: "Мы, врачи, должны объединиться" для совместных действий. Однако он вскоре понимает, что общественная деятельность врачей немногое меняет в судьбе народа, Сам же народ меньше всего рассчитывает на помощь добрых интеллигентов, он не ждет, он поднимается на борьбу. Бастуют рабочие. Финальная встреча молодого врача с литейщиком окончательно рассеивает иллюзии: "...выходом тут не может быть тот путь, о каком я думал. Это была бы не борьба отряда в рядах большой армии, это была бы борьба кучки людей против всех окружающих, и по этому самому она была бы бессмысленна и бесплодна". Лишь коренной слом существующего общественного строя, лишь революция способны изменить условия жизни народа; рабочий-революционер - вот тот, кто сумеет наконец осуществить заветные идеалы человечества, - таков результат тех идейных исканий, к которому пришел герой "Записок врача", а вместе с ним и автор.
Правда, литейщик по меди, пролетарий, появляющийся лишь в одном, хоть и кульминационном, эпизоде, не показан в условиях своей революционной деятельности, не стал в повести полнокровным человеческим характером. Это была пока робкая попытка создать образ нового героя, но уже само появление его - принципиальное завоевание В. Вересаева.
Социальная заостренность творчества В. Вересаева, стремление говорить с читателями о самых злободневных вопросах общественной жизни страны постоянно рождали в прессе страстные опоры вокруг его произведений. Но дискуссия о "Записках врача" по количеству участников и страстности тона ни с чем не сравнима. Появление книги в печати вызвало поистине взрыв. Позднее, в "Записях для себя", В. Вересаев вспоминал: "..."Записки врача" дали мне такую славу, которой без них я никогда бы не имел и которой никогда не имели многие писатели, гораздо более меня одаренные... Успех "Записок" был небывалый... Общей прессой... книга была встречена восторженно... Врачебная печать дружно встретила книгу мою в штыки... Кипели всюду споры "за" и "против". В обществах врачебных и литературных читались доклады о книге".
В эти дискуссии включился и сам автор. В петербургской газете "Россия" 7 декабря 1901 г. он напечатал небольшую заметку "Моим критикам. (Письмо в редакцию)". Непосредственным поводом для письма явился опубликованный в газетах отчет о речи профессора Н. А. Вельяминова, произнесенной им на годовом собрании медико-хирургического общества и посвященной разбору "Записок врача". Речь профессора, как и большинство других критических выступлений в связи с "Записками врача", страдала, по мнению В. Вересаева, одним общим недостатком: все описанное в книге считали присущим лишь одному В. Вересаеву, а он-де "человек крайне легкомысленный, невдумчивый, сентиментальный, развратный, вырождающийся, обуянный самомнением, погрязший в "эгоизме" и т. п. Но при этом критик проходит полным молчанием тех, - может быть невольных, - моих союзников, свидетельства которых я привожу в своей книге", - отмечает В, Вересаев.
"Записки врача" вызвали одобрение Л. Толстого, а Л. Андреев писал о них в московской газете "Курьер" 6 декабря 1901 г. прямо-таки восторженно: "По редкому бесстрашию, по удивительной искренности и благородной простоте книга г. Вересаева "Записки врача" принадлежит к числу замечательных и исключительных явлений не только в русской, но и европейской литературе... нельзя не уважать г. Вересаева как смелого борца за правду и человечность. И если после книжки г. Вересаева вы полюбите его и поставите его в ряды тех, перед которыми всегда следует снимать шапку, - вы отдадите ему только должное".
Однако реакционная пресса продолжала нападки на книгу. Видя в ней документ огромной обличительной силы, пресса эта пыталась изобразить дело так, будто "Записки врача" не отражают действительного положения вещей, а явились следствием "неврастенического копания" В. Вересаева в "собственных ощущениях". Тогда писатель решил дать достойный и аргументированный отпор попыткам снизить общественную значимость книги. В 1902 году журнал "Мир божий" (No 10) публикует его статью "По поводу "Записок врача", с подзаголовком - "Ответ моим критикам". В 1903 году в Петербурге эта статья, значительно дополненная, вышла отдельной брошюрой (она включена в настоящее издание и дает ясное представление о характере дебатов вокруг "Записок врача").
В. Вересаев отстаивал и пропагандировал свою точку зрения не только путем споров с критиками-оппонентами. В 1903 г. в Москве он выпускает со своим предисловием и в собственном переводе с немецкого работу д-ра Альберта Молля "Врачебная этика. Обязанности врача во всех проявлениях его деятельности" - книгу, в известной мере перекликающуюся с "Записками врача". В том же году В. Вересаев ведет переговоры об участии в "Сборнике рассказов и очерков об условиях жизни и деятельности фельдшеров, фельдшериц и акушерок".
Несмотря на нападки известной части критики, "Записки врача" неизменно пользовались огромным читательским спросом, одно издание за другим расхватывалось моментально. При жизни писателя они выходили четырнадцать раз, не считая журнальной публикации; широко издавались и за границей.
Именно в конце 90-х - начале 900-х годов В. Вересаев уточняет и свои представления о роли искусства. В "Прекрасной Елене" (1896) и "Матери" (1902) он, как и в "Загадке", отстаивает могучую силу художественного образа, облагораживающего и возвышающего человека. Но в рассказе 1900 года "На эстраде" появляется еще и новый, весьма существенный мотив: счастье искусства - ничто в сравнении со счастьем жизни, "в жизни оно гораздо более шероховато и более жгуче"; только то искусство оправдывает свое назначение, которое помогает борьбе, и, напротив, оно становится вредным, коль скоро выливается в простую гамму "чудных звуков", в "наслаждение", усыпляющее жизненную активность человека. Писатель выступал против эстетических принципов декадентов.
А написанная в 1901 году повесть "На повороте" вновь свидетельствовала, что марксизм для В. Вересаева отнюдь не был "поветрием". Недаром В. И. Ленин так одобрительно встретил публикацию ее первых глав (В. И. Ленин. Поля. собр. соч., т. 55, с. 219), а известная революционерка-народница В. Фигнер рассказывала писателю, что политические заключенные Шлиссельбургской крепости из попавшей к ним повести "На повороте" узнали о надвигавшейся революции.
Один из героев повести "На повороте", Владимир Токарев, пройдя через ссылку, отказывается от былых революционных убеждений, видя в них дань обычному безрассудству молодости. У Токарева и ему подобных нет будущего. Оно за такими, как Таня. Эта девушка из интеллигенции стала "пролетарием до мозга костей", "никакие условности для нее не писаны, ничем она не связана". "С нею можно было говорить только о революции, все остальное ей было скучно, чуждо и представлялось пустяками".
Наташа в повести "Без дороги" восставала против политического пессимизма Чеканова, но ясной программы действий не имела. Наташа в "Поветрии" вступала в бескомпромиссный спор с народниками, отстаивая марксизм. Таня в повести "На повороте" рвется к практической деятельности, к сближению с рабочими, смело отстаивающими свои права. А ее завязывающаяся дружба с мастеровым - пример того союза рабочих и революционной интеллигенции, на который теперь ориентируется В. Вересаев.
Идейные искания разных слоев интеллигенции уже безоговорочно оцениваются автором с позиции рабочего-революционера. "Сильный своею неотрывностью от жизни", Балуев изображен в прямой и открытой схватке с колеблющейся и растерявшейся интеллигенцией. После встречи с ним Токарев ощущает "смутный стыд за себя". Даже Таня признает его превосходство.
Близость В. Вересаева к революционному движению обращает на себя внимание властей. В апреле 1901 года у него на квартире производят обыск, его увольняют из больницы, а в июне постановлением министра внутренних дел ему запрещают в течение двух лет жить в столичных городах.
В. Вересаев уезжает в родную Тулу, где находится под надзором полиции. Но и там активно участвует в работе местной социал-демократической организации. Сближается с Тульским комитетом РСДРП, который возглавлялся рабочим С. И. Степановым (после Октября он был председателем Тульского губисполкома), врачом-хирургом П. В. Луначарским, братом А. В. Луначарского, и другими твердыми "искровцами", впоследствии, когда произошел раскол партии, ставшими большевиками. Ряд заседаний комитета проходил в доме В. Вересаева. Осенью 1902 года, как раз в период наиболее тесных контактов В. Вересаева с комитетом РСДРП, был выбран от Тулы делегатом на II съезд партии брат В. И. Ленина Д. И. Ульянов. Писатель помогал комитету деньгами, устраивал литературно-художественные вечера, денежные сборы от которых шли на революционную работу. Он активно участвует в подготовке первой рабочей демонстрации в Туле, происшедшей 14 сентября 1903 года. Написанную им по заданию комитета РСДРП прокламацию "Овцы и люди" разбрасывали во время демонстрации. В ней В. Вересаев писал: "Братья, великая война началась... На одной стороне стоит изнеженный благами, облитый русской кровью самодержец, прячась за нагайки и заряженные ружья... На другой стороне стоит закаленный в нужде рабочий с мускулистыми, мозолистыми руками... Царь земли тот, кто трудится... Мы не отступим, пока не завоюем себе свободы... Долой самодержавие! Да здравствует Социал-Демократическая Республика!"
В годы, предшествующие первой русской революции, В. Вересаев все больше связывает мечты об обществе людей-братьев с судьбой рабочего класса. Образы вчерашних крестьян, едва-едва приобщающихся к жизни городского пролетариата, с бесправным положением которых писатель призывал бороться русскую интеллигенцию ("Ванька", "В сухом тумане"), постепенно вытесняются в его произведениях рабочими совсем иного плана - революционно настроенными пролетариями, указывающими интеллигенция путь борьбы ("Записки врача", "На повороте"). В записной книжке писателя, строго поделенной на рубрики, именно в этот период появляется новый, густо исписанный раздел "Рабочие", а в 1899 - 1903 годах он пишет повесть "Два конца", где впервые центральными персонажами оказались не интеллигенты, а пролетарии.
И в этой повести В. Вересаев разрешил себе писать только о том, что знал досконально, "изнутри". Поэтому революционные рабочие - Барсуков, Щепотьев, - хоть, несомненно, рассматриваются автором как главные герои эпохи, не стали главными героями повествования. "Два конца" прежде всего изображали ту часть рабочего класса, которая осознала ужас своего существования, но до революционной борьбы еще не поднялась. Эту среду В. Вересаев знал лучше, ему довелось ее близко наблюдать. В 1885 - 1886 годах он снимал комнату у переплетчика Александра Евдокимовича Караса и внимательно присматривался к жизни его семьи и его окружения, вел записи. Хозяева квартиры и явились прототипами героев повести, даже их фамилию В. Вересаев не выдумал, а дал ту, что носил дед переплетчика - Колосов.
Андрей Иванович Колосов сочувственно слушает разговоры о равноправии женщин и вместе с тем не хочет признать свою жену полноценным человеком, бьет ее, запрещает учиться и работать, потому что ее дело - хозяйство, ее дело - о муже заботиться. У него "есть в груди вопросы, как говорится... - насущные", он соглашается, "что нужно стремиться к свету, к знанию... к прояснению своего разума", но утешение находит в трактире.
Знакомство с революционерами - "токарем по металлу из большого пригородного завода" Барсуковым и его товарищем Щепотьевым - убеждает его, "что в стороне от него шла особая неведомая жизнь, серьезная и труженическая, она не бежала сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре, она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения". Но он ничего не делает, чтобы приобщиться к "бодрой и сильной" жизни. Так и тянулось это постылое существование без будущего, без борьбы, без "простора", и больной, никому не нужный, кроме жены, Андрей Иванович умирает от чахотки.
Жизнь его жены еще безотраднее. В переплетной мастерской, той самой, где работал Андрей Иванович, а после его смерти Александра Михайловна, к девушкам и женщинам относились совсем иначе, чем к переплетным подмастерьям. "С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение". За то, чтоб жить, жить хоть впроголодь, женщине приходилось продавать себя мастеру, хозяину мастерской - всем, от кого зависит, быть ли женщине сытой или умереть в нищете. Писатель показывает, как рушатся надежды Александры Михайловны на "честный путь".
Революционный подъем накануне 1905 года, властно захвативший В. Вересаева, определил пафос и записок "На японской войне", а также примыкающего к нему цикла "Рассказы о японской войне" (1904-1906).
В июне 1904 года как врач запаса В. Вересаев был призван на военную службу и вернулся с японской войны лишь в начале 1906 года.
М. Горький был прав: события русско-японской войны нашли в В. Вересаеве "трезвого, честного свидетеля". Об этой, по словам В. И. Ленина, "глупой и преступной колониальной авантюре" (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 155) написано в русской литературе довольно много. Только в одних сборниках "Знание", где печатались записки В. Вересаева, были опубликованы и "Красный смех" Л. Андреева, и "Путь" Л. Сулержицкого, и "Отступление" Г. Эрастова. Авторы этих произведений с гневом писали о бессмысленности и ужасах бойни, устроенной царским правительством на полях Маньчжурии, но лишь В. Вересаев увидел в бесславной для России войне свидетельство краха всей самодержавно-крепостнической системы. Записки "На японской войне" явились великолепным подтверждением мысли В. И. Ленина о том, что в этой войне "не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению" (там же, с. 158). "Поразительно прекрасный в своем беззаветном мужестве, в железной выносливости" русский солдат не мог принести новой славы русскому оружию.
Тема двух властей - власти самодержавной и власти народной, - одна из центральных в записках "На японской войне" и "Рассказах о японской войне". Первую отличает "бестолочь". В трудную минуту проверяется духовная сила людей, в трудную минуту проверяется и жизнеспособность общества или государства. В напряженные дни войны, когда государственная машина должна бы работать предельно слаженно, "колесики, валики, шестерни" царской системы управления "деятельно и сердито вертятся, суетятся, но друг за друга не цепляются, а вертятся без толку и без цели", "громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна".
В. Вересаев рисует картину царящей на фронте неразберихи. Так, инспектором госпиталей был назначен бывший полицмейстер генерал-майор Езерский. В начальники санитарной части армии попал генерал Трепов, он "отличался разве только своею поразительною нераспорядительностью, в деле же медицины был круглый невежда". "В бою под Вафангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что Штакельберг загородил своим поездом дорогу санитарным
Сочинение
О войне он поведал читателю в записках «На японской войне» (1906 - 1907) и в примыкающем к ним цикле «Рассказы о японской войне» (1904 - 1906). «На японской войне» - кульминационное произведение дооктябрьского творчества Вересаева. Писатель впервые столь определенно раскрыл тему двух властей - власти самодержавной и власти народной. В последних главах записок, посвященных дороге домой, по районам, где власть перешла к стачечным комитетам, В. Вересаев рассказал, как разительно отличались два мира - старый мир бюрократического равнодушия к человеку и мир новый, мир свободы. Но стоило эшелону, в котором, ехал писатель, попасть в районы, где хозяйничало военное командование, как начиналась знакомая «бестолочь», хамское отношение к человеку. Здесь, на родине, Вересаев задумывает в 1906 году большую вещь о революции.
Однако вскоре оставляет эту повесть и пишет другую - «К жизни», в которой ставит под сомнение успех революционной борьбы и предлагает новую программу переустройства мира. Размышляя о причинах поражения первой русской революции, В. Вересаев пришел к выводу, что подтвердились его былые сомнения. Он продолжает мечтать о революции, но считает ее делом будущего, пока же главной задачей ему представляется воспитание человека, моральное его совершенствование. Так рождалась теория «живой жизни», а вместе с тем и повесть «К жизни», предлагающая идеалистическую по своей сути программу морального совершенствования человека. Поиски нового «смысла жизни» целиком связаны с главным героем Константином Чердынцевым, от лица которого ведется рассказ.
Пережив увлечение и революцией, и мещанским идеалом сытого довольства настоящим, и декадентством, Чердынцев во второй части повести обретает истинный, по мнению писателя, смысл жизни. Подлинное счастье людей в близости к крестьянскому труду, связанному с «матушкой-землей», в постоянном общении с вечно юной природой; именно таким путем и возможно нравственное совершенствование человека. Теория «живой жизни» сильно отдавала толстовством. Повесть «К жизни» встретили в штыки и революционные круги и реакционная пресса. Своим оптимизмом, своей верой в созидательные возможности человечества В. Вересаев противостоял реакционерам, оплевывавшим революцию и человека. Но в то же время он уводил читателя в сторону от социальной борьбы. И его осудили те, кто продолжал звать народ на бой с царизмом. Вплоть до грозных дней 1917 года писатель занимает двойственную позицию. Себя он, как и раньше, считает социал-демократом, марксистом.
Держится резко оппозиционно к самодержавной власти. Достаточно вспомнить его отказ от звания почетного академика. В конце 1907 года Вересаев с радостью принимает предложение М. Горького стать одним из редакторов сборника, в котором предполагалось участие В. И. Ленина и А. В. Луначарскогo. На посту председателя правления и редактора «Книгоиздательства писателей в Москве» В.Вересаев ведет войну с декадентами, отстаивая реализм, намеревается сделать из «Книгоиздательства» центр, противостоящий литературе буржуазного упадка. В октябре 1917 года Россию потряс новый революционный взрыв. Как только В. Вересаев воочию убедился, что начался новый штурм самодержавия, он пошел с народом: в 1917 году Вересаев работает председателем художественно-просветительской комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве. Задумывает издание дешевой «Культурно-просветительной библиотеки». В 1919 году, с переездом в Крым, становится членом коллегии феодосийского наробраза, заведует отделом литературы и искусства.
Позже, при белых, 5 мая 1920 года, на его даче проходила подпольная областная партийная конференция большевиков.
В газетах даже появились сообщения, что Вересаев расстрелян белогвардейцами. Вернувшись в 1921 году в Москву, он много сил отдает работе в литературной подсекции Государственного ученого совета Наркомпроса, созданию советской литературной периодики (был редактором художественного отдела журнала «Красная новь», членом редколлегии альманаха «Наши дни»). Его избирают председателем Всероссийского союза писателей. Вересаев выступает с лекциями перед молодежью, в публицистических статьях изобличает старую мораль и отстаивает новую, советскую («Об обрядах старых и новых», например).
Рассказывали много анекдотов про осведомленность японцев.
К нашему генералу приводят пленного японского офицера. Генерал в это время отдает приказание ординарцу:
– Поезжайте сейчас же к командиру N-ского полка и передайте ему то-то.
– А где, ваше превосходительство, стоит полк?
– Где?.. Как ее, деревню эту?
Генерал припоминает и беспомощно щелкает пальцами. Японец предупредительно приходит ему на помощь.
– N-ский полк, ваше превосходительство, стоит в деревне Z.
Другой анекдот:
Казак доставляет в штаб человека в русской офицерской форме и докладывает, что поймал переодетого японского шпиона.
– Да это русский офицер!
– Никак нет, японец.
– Да русский же. Что ты говоришь?
– Японец, верно говорю: первое – больно хорошо по-русски говорит, а главное – великолепно знает расположение наших войск.
Мы простояли в Сыпингае несколько дней и 8-го марта, в 12 ч. дня, исполняя предписание генерала Четыркина, выступили в Гунчжулин.
Теперь дороги были просторны и пусты, большинство обозов уже ушло на север. Носились слухи, что вокруг рыщут шайки хунхузов и нападают на отдельно идущие части. По вечерам, когда мы шли в темноте по горам, на отрогах сопок загадочно загоралась сухая прошлогодняя трава, и длинные ленты огня ползли мимо нас, а кругом была тишина и безлюдие.
Кое-где в встречных деревнях стояли сторожевые охранения в одну или две роты. Однажды утром проехали мы такую деревню, спускаемся на равнину. По лощине, сломя голову, мчалось штук пять черных китайских свиней, а за ними, широко вытянувшись по равнине, бежали солдаты с винтовками. Иногда то тот, то другой солдат приседал, делал что-то непонятное и бежал дальше. Наша команда с жадным, сочувственным интересом следила за происходившим.
– О, здорово! Попал… Кувыркнулась!
– Нет, мимо. Ранил только… Опять побежала.
– «Побежала»! Где ж побежала? Вон штыком прикалывает.
Солдаты стреляли по свиньям; ветер дул от нас, и выстрелов не было слышно, только слабо сверкали огоньки у дул винтовок.
Четыре солдата бежали свиньям наперерез. Один присел, выстрелил с колена – мимо. Пуля, ноя, пронеслась над нашими головами. Солдаты, как маленькие ребята, все забыли, увлекшись охотою. Мелькали огоньки выстрелов, свистели пули…
Не верилось глазам: это – в двух шагах от японцев, это – в то время, когда ложная боевая тревога может повести к неисчислимым бедствиям!
Из-за горки показались три осторожно вглядывающихся казака с пиками. Солдаты с торжеством тащили к деревне убитых свиней.
В облегченном оживлении от отсутствия жданной опасности, казаки подскакали к солдатам и стали их ругать. Возмущенный главный врач кричал:
– Эй, казаки! Арестовать их!.. Веди их сюда!
Казаки подвели двух испуганных солдат с белыми, как известка, лицами. Один был молодой, безусый парень, другой – с черною бородкою, лет за тридцать. Казаки рассказывали:
– Шла наша сотня вдоль пути, вдруг слышим, – пальба, над головами зазыкали пули. Командир послал нас разведать, а это они, подлецы!
– Отверни штыки! – распоряжался главный врач. – Посмотреть, заряжены ли у них винтовки!.. Ах-х, вы, сукины дети, а? Под суд без разговоров!.. Иди за нами!
Казаки поскакали догонять свою сотню. Мы двинулись дальше, сопровождаемые арестованными. Они шли, медленно ворочая широко открытыми глазами, бледные от неожиданно свалившейся беды. Наши солдаты сочувственно заговаривали с ними.
На берегу реки, под откосом, лежал, понурив голову, отставший от гурта вол. У главного врача разгорелись глаза. Он остановил обоз, спустился к реке, велел прирезать быка и взять с собой его мясо. Новый барыш ему рублей в сотню. Солдаты ворчали и говорили:
– Может, он больной какой! Все равно, не станем его есть!
Главный врач притворялся, что не слышит ворчаний, тыкал пальцем в окровавленное легкое и говорил:
– Э!.. Совсем здоровый! Прямо грех столько мяса бросать на дороге!
К арестованным не было приставлено караула. Они воспользовались отвлеченным от них вниманием и скрылись.
Пришли мы в Гунчжулин. Он тоже весь был переполнен войсками. Помощник смотрителя Брук с частью обоза стоял здесь уже дней пять. Главный врач отправил его сюда с лишним имуществом с разъезда, на который мы были назначены генералом Четыркиным. Брук рассказывал: приехав, он обратился в местное интендантство за ячменем. Лошади уже с неделю ели одну солому. В интендантстве его спросили:
– Ваш госпиталь откуда?
– Из-под Мукдена.
– А, из-под Мукдена! Нет вам ячменю: мы беглым не даем!
И не дали… Здесь оказался тот удивительный «патриотизм», которым так блистал в эту войну тыл, ни разу не нюхавший пороху. Все время, до самого мира, этот тыл из своего безопасного далека горел воинственным азартом, обливал презрением истекавшую кровью армию и взывал к «чести и славе России».
Но нужно и то сказать: героизм, отвага, самопожертвование были там, назади; а здесь больше всего бросалась в глаза человеческая трусость, бесстыдство, моральная грязь, – все темные отбросы, которые в первую очередь выплеснула из себя гигантская волна отступавшей армии.
В буфете встретил я офицерика одного из наших полков: командир его роты был убит в самом начале боя, и командование перешло к нему.
– Вы как здесь?
Он весело ответил:
– Да вот, заболел! Ревматизм в ногах. Обращался в госпиталь, не принимают.
– И давно вы здесь?
– Недели полторы.
– Кто же вашею ротою командует?
– Там у нас зауряд-прапорщик один есть.
– А что же вы тут делаете?
– Поджидаю наш полк.
Он его здесь поджидает!.. И сам – весело-беззаботный, жизнерадостный, даже не понимающий позора своего поступка.
На поездах, шедших на север, все проезжали беглые солдаты. Были командированы специальные офицеры ловить их. Сидит такой офицер в вагоне-теплушке. В вагоне темно, снаружи ярко светит месяц. Вырисовывается фигура лезущего в вагон солдата с винтовкой.
– Эй, борода, куда?
– Ничего, землячок, я один!
– Ты куда едешь-то?
– Да повка своего ищу.
– Это ты в Харбин едешь «повка» своего искать?
И солдата арестовывали.
Знакомый врач, заведовавший дезинфекционным поездом, рассказывал мне. При отступлении от Мукдена в свободный вагон-теплушку набились раненые офицеры.
Приехал поезд в Куачендзы, Вдруг многие из «раненых» скинули с себя повязки, вылезли из вагона и спокойно разошлись в разные стороны. Повязки были наложены на здоровое тело!.. Один подполковник, с густо забинтованным глазом, сообщил доктору, что он ранен снарядом в роговую оболочку. Доктор снял повязку, ожидая увидеть огромную рану. Глаз совсем здоровый.
– Куда же вы ранены?
– Я не ранен, а этого… Как это называется? Близко, знаете, пролетел снаряд… Контузия… Я контужен в роговую оболочку.
Теперь был полный простор для деятельности главного инспектора госпиталей Езерского, о котором я уже немало рассказывал. Бывший полицмейстер попал в свою сферу. Он рыскал по станциям, рыскал по поездам, устраивал форменные обыски и облавы. Рассказывали, что он нашел в поезде двух офицеров, спрятавшихся от него под пустой котел на вагоне-платформе. Но генерал Езерский не ограничивался ловлею беглых в товарных и пассажирских поездах. То же самое он проделывал и в поездах санитарных. Проверял и отменял диагнозы врачей, высаживал больных, которых признавал здоровыми. По-видимому, деятельность его, наконец, обратила на себя внимание; его перевели куда-то в тыл, кажется, во Владивосток.
Наступление японцев остановилось. Понемножку все начинало приходить в порядок. Связи между частями восстанавливались.
Annotation
На японской войне
Живая жизнь
В. Вересаев
На японской войне
III. В Мукдене
IV. Бой на Шахе
V. Великое стояние: октябрь – ноябрь
VI. Великое стояние; декабрь – февраль
VII. Мукденский бой
VIII. На Мандаринской дороге
IX. Скитания
X. В ожидании мира
Живая жизнь
Человек проклят (О Достоевском)
I. «Одни только люди, а кругом них молчание»
II. «Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto»
III. Не забывающие про смерть
IV. «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?»
V. «Смелей, человек, и будь горд!»
VI. Извлечение квадратного корня
VII. Бифштекс на жестяном блюдце
VIII. «Вот какие мы богачи»
IX. Любовь - страдание
X. Недостойные жизни
XI. «Жить, чтоб только проходить мимо»
XII. Вечная гармония
«Да здравствует весь мир!» (О Льве Толстом)
I. Единство
II. Способ познания
III. «Смысл добра»
IV. Живая жизнь
V. Мертвецы
VI. Прекрасный зверь
VII. «Не ниже ангелов»
VIII. Любовь - радость
IX. Любовь - единение
X. Любовь мертвецов
XI. «Мне отмщение»
XII. Смерть
XIII. Memento Vivere!
XIV. «Будь всяк сам себе»
XV. Природа
XVI. История двух бесконечностей
XVIII. «Не я, но вы увидите уже лучшую землю»
Противоположные
Сон третьего ноября
«Аполлон и Дионис» (О Ницше)
I. «Рождение трагедии»
II. Священная жизнь
III. Бог счастья и силы
IV. Вокруг Эллады
V. «Лучше всего - не родиться»
VI. Бог страдания и избытка сил
VII. «Пессимизм силы»
VIII. Между двумя богами
IX. Декадент перед лицом Аполлона
X. Трагедия Ницше
XI. «Истина не есть нечто такое, что нужно найти, а есть нечто такое, что нужно создать»
XII. «Ты еси»
В. Вересаев
Собрание сочинений в 5 томах
Том 3
На японской войне
I. Дома
Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт–артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целою эскадрою, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»… Война началась.
Из–за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящею медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.
Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «ура», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.
Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своею ненужностью, – что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары, – это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: война была ей ненужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.
Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно–ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что–то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно–вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза, – это та невиданно–глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.
Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был, – бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбою организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.
В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на «Риголетто». Перед увертюрою сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел гимн, раздалось «bis» – спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса: «Гимн! Гимн!». Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии «Риголетто» хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом».
В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что–то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городовые нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.
Генерал–губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же воззвания были выпущены начальниками других городов, – и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства… Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, – и против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули.
Вересаев Викентий Викентьевич
На японской войне
Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целою эскадрою, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»… Война началась.
Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящею медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.
Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «ура», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.
Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своею ненужностью, – что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары, – это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: война была ей ненужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.
Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза, – это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.
Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был, – бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбою организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.
В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на «Риголетто». Перед увертюрою сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел гимн, раздалось «bis» – спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса: «Гимн! Гимн!». Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии «Риголетто» хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом».
В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городовые нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.
Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же воззвания были выпущены начальниками других городов, – и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства… Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, – и против этого подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули.
В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, «как русский матрос разбил японцу нос», – по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадною рожею, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоконародном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом…
А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собою горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: «терпение, терпение и терпение»… В конце марта погиб с «Петропавловском» слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через реку Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан.
Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных «макаков», – на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника X. или поручика У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало.
Идет по улице мальчуган-газетчик, у ворот сидят мастеровые.
– Последние телеграммы с театра войны! Наши побили японца!
– Ладно, проходи! Нашли где в канаве пьяного японца и побили! Знаем!
Бои становились чаще, кровопролитнее; кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди из снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения, трупы, трупы, трупы, – за тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса, призрак какой-то огромной, еще невиданной в мире бойни.
* * *
В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили:
– Теперь еще больше пойдут податей брать!
В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии, В деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухою ночью звонилась в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, – полиция взломала его стол, достала паспорты призванных и всех их увела.