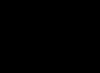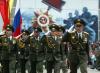1812 год. Пожар Москвы Земцов Владимир Николаевич
2.1 Ф.В.Ростопчин и «дело Верещагина»
2.1 Ф.В.Ростопчин и «дело Верещагина»
Около 10 часов утра 2 сентября 1812 года, в день вступления неприятеля в Москву, возле дворца московского главнокомандующего Ф.В. Ростопчина на Лубянке (ныне ул. Б. Лубянка, 14) разыгралась кровавая трагедия. Ростопчин бросил на растерзание толпе московского простонародья обвиненного в измене Отечеству купеческого сына Михаила Верещагина. Событие это вызывало интерес многих историков, писателей и общественных деятелей. О нем говорили уже тогда, в 1812 г., позже писали историки XIX в. Н.Ф. Дубровин, П.В. Шереметевский, А.Н. Попов и др. Сцену расправы над Верещагиным описал великий русский писатель Л.Н. Толстой в романе «Война и мир». В начале XX в. к теме смерти Верещагина обращались либеральные историки С.П. Мельгунов и А.А. Кизеветтер, художники А.Д. Кившенко и К.В. Лебедев… Правда, в советское время это событие обычно удостаивалось только скромного упоминания, возможно в силу того что смерть какого-то купеческого сына, да еще и «не патриота» (!), не могла идти в сравнение с теми жертвами, которые понес народ, охваченный пламенным патриотизмом в борьбе с иноземными захватчиками. Однако к концу XX и началу XXI вв. о смерти Верещагина заговорили вновь. На этот раз инициатива исходила от кругов «охранительно-патриотических». О.Н. Любченко и М.В. Горностаев, обратившиеся к личности и деятельности Ростопчина, жизнь которого являлась, по их мнению, великим примером мудрости гражданственного служения Отечеству, не только пытаются снять со своего кумира обвинения историков-либералов в преступлении, но и придать этому событию даже некий героический ореол. В своем повествовании мы не собираемся никого обвинять или оправдывать, не хотим также вступать в полемику с нашими предшественниками (исключение составляют только те сюжеты, где речь идет о подлинности или убедительности самих фактов). Наша задача нам видится в другом: попытаться понять, как эта жертва оказалась связана с тем эпохальным событием, которое принято называть Великим московским пожаром 1812 года.
18 июня 1812 г., во вторник, в восьмом часу вечера из кофейни, что находилась недалеко от Гостиного двора, в доме Плотникова, и которую содержал турок с русским именем Федор Андреев, вышли трое молодых людей: 22-летний купеческий сын Михайло Верещагин, 32-летний отставной чиновник Петр Мешков и некто Андрей Власов, можайский мещанин, не сыгравший в последующей истории какой-либо заметной роли. Все трое были одеты вполне пристойно - в сюртуках фрачного покроя, в круглых шляпах, держались уверенно и свободно.
Верещагин и Мешков только что обсуждали в кофейне, бывшей своего рода общественным клубом для тех москвичей, которые считали себя людьми просвещенными и свободно мыслящими, интригующую бумагу - письмо Наполеона к прусскому королю и речь, произнесенную им же перед князьями Рейнского союза в Дрездене. В этих документах Наполеон возвещал о походе на Россию и заявлял, что не пройдет и шести месяцев, как две северные столицы будут у его ног. Это был, по словам Верещагина, перевод, сделанный им из какой-то гамбургской газеты, которую он читал в почтамте благодаря сыну московского почт-директора. Вполне понятно, что все это было сделано под большим секретом, так как газеты, приходившие ранее из Европы, теперь были большой редкостью. Любые известия, касавшиеся планов Наполеона, который только что, 11 июня, перешел русскую границу, должны были проходить через сито цензуры. Действительно, Верещагин, пришедший в тот день в кофейню, не нашел там, как было раньше, свежих иностранных газет, ни на немецком, ни на французском (эти языки он хорошо знал), ни, тем более, на английском (который знал значительно хуже, но на котором также мог читать) языках. Тогда Верещагин приказал подать себе трубку табаку и начал разговор со своим знакомым Петром Мешковым. Желая удивить старшего приятеля осведомленностью, Михаил отвел его в соседнюю комнату, где никого не было, достал из внутреннего кармана фрака листок бумаги и с него прочел сделанный им в понедельник перевод с одной из гамбургских газет. Мешков был заинтригован и сразу стал просить этот текст дать ему списать. Но Верещагин, справедливо полагая такой оборот дела опасным, вспомнив к тому же о предостережениях отца и мачехи, уже знакомых с этой бумагой, категорически отказался это сделать. Для приличия он отговорился тем, что в кофейном доме не место для списывания. Однако Мешков не отставал. Ему страшно хотелось самому стать обладателем сей заветной бумаги, которая могла придать ему вес в глазах друзей и знакомых. Мешков спросил Верещагина, куда тот собирается идти из кофейни и, узнав, что Михаил должен идти на Кузнецкий мост, к пивным лавочкам, которые содержит отец, дабы выполнить какое-то поручение, предложил идти вместе. Квартира Мешкова была по дороге - у пересечения Кузнецкого моста и Петровки, возле бывшего здесь долгое время Пушечного двора. Пригласив с собой общего знакомого - Андрея Власова, которого, впрочем, они не посвятили в суть только что состоявшегося разговора, молодые люди вышли из кофейни.
Трое приятелей миновали оживленные улицы возле Гостиного двора, прошли рядом с Казанским собором, вышли через Воскресенские ворота на Неглименный мост и, разговаривая, направились к улице Петровке. Через два с половиной месяца, 2 сентября 1812 г., где- то здесь, вывалившись с Тверской, пьяная толпа будет тащить по земле окровавленное тело Верещагина. Голова его будет биться о камни мостовой, а толпа выкрикивать его отлетевшей душе злобные проклятия…
Старый Гостиный двор на Ильинке. Худ. Ф.Я. Алексеев и ученики. 1800-е гг.
Тогда же, 18 июня, приятели испугались огромной грозовой тучи, которая заволокла небо и собиралась разразиться сильным дождем. Тут-то и произошло роковое событие: Мешков пригласил попутчиков зайти к нему на квартиру, которую он снимал уже чуть более года в доме губернского секретаря Саввы Васильевича Смирнова. Были ли в тот час дома жена и дети Мешкова, о том не известно, только Петр Алексеевич, приняв на себя роль радушного хозяина, сам стал угощать дорогих гостей. Угощал сперва пивом, затем молодые люди перешли к чаю и, наконец, закончили возлияния пуншем. Верещагин раздобрел и, наконец, после очередной просьбы Мешкова, вытащил из кармана ту самую (то ли серую в четверть листа, как утверждали потом Верещагин и Власов, то ли синюю в половину листа, как говорил Мешков) бумагу. Мешков здесь же бросился ее списывать. Совсем захмелевший Верещагин помогал ему разбирать не очень ясно написанные фразы. На вопрос Мешкова о том, откуда Верещагин получил эту «речь», последний, как и ранее, отвечал, что перевел ее из гамбургской газеты в почтамте, у сына почт-директора Ключарева.
Что же касается еще одного участника этой сцены, Власова, то он, как уверяли потом все трое, находился поодаль, возле окна, наблюдая за грозой, и вряд ли что слышал. Когда Мешков закончил списывать бумагу, Верещагин взял ее обратно, положил в карман и заплетающимся языком попросил своего приятеля никому о ней не говорить. Конечно, Мешков уверил, что никому не проболтается, добавив при этом, что не собирается попадать в Управу благочиния, то есть в полицию.

Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве (фрагмент). Худ. Ф.Я. Алексеев. 1811 г.

Бывший дом купца Н.Г. Верещагина (ныне ул. Николоямская, 19). Современный вид. Фото автора. Сентябрь 2009 г.
Вскоре дождь прекратился, стало быстро смеркаться. Верещагин, чувствуя, что уже сильно пьян, решил ни в какие лавки не идти, а отправиться прямо домой. Распрощавшись, он вышел на улицу и нетвердой походкой направился мимо Китай-города, через Солянку, через Яузский мост на Николоямскую, где напротив церкви Симеона Столпника находился каменный с колоннами дом его отца.
Вскоре после ухода Верещагина к Мешкову зашел Смирнов, хозяин квартиры, которую снимал Петр Алексеевич. Последний здесь же, несмотря на данное Верещагину слово, выболтал о только что списанной бумаге и показал ее. Теперь уже Смирнов стал просить своего квартиранта дать ему «наполеонову эту речь» списать, чему Мешков отказать не посмел. Смирнов унес бумагу с собой и возвратил ее только на другой день поутру. Так по Москве начала ходить эта «вражеская бумага».
Обратимся теперь к главному герою нашего рассказа. Михаил Николаевич Верещагин родился в 1789 г., в год начала Французской революции, и ко времени разыгравшейся драмы ему шел 23-й год. Отец его, Николай Гаврилович Верещагин, происходил из экономических крестьян д. Верещагино Пошехонского округа Ярославской губернии. Он уже давно обосновался в Москве и занимался содержанием торговавших пивом (или как правильнее для того времени - полупивом) и гербергов, своего рода гостиниц, превратившихся вскоре в рестораны. Согласно записке Городского общества от 1 июля 1812 г., составленной в ответ на запрос Ростопчина, Николай Гаврилович поступил в московское купечество еще в 1802 г., и на 1812 г. состоял во 2-й гильдии. Как мы уже отмечали, Н.Г. Верещагин имел в Яузской части на Николоямской улице собственный большой каменный дом, с колоннами, выходивший фасадом на церковь св. Симеона Столпника. Помимо Михаила, который родился в первом браке, у Николая Гавриловича было еще двое детей от второго брака с Анной Алексеевной - сын Павел, лет 10–11, и дочь Наталья. Отношения Михаила с мачехой были, по-видимому, самые теплые, так как во время следствия он называл ее не иначе как матушкой. Трудно сказать определенно, заканчивал ли Михаил Верещагин какое-либо учебное заведение. Шереметевский в свое время высказал предположение, что Михаил мог обучаться в коммерческом пансионе, преобразованном в 1810 г. в Коммерческую практическую академию. Но это предположение ни на чем не основано. Не исключено, что Михаил Верещагин был обязан своему знанию французского, немецкого и даже английского языков домашнему образованию. В 1805 г., когда Михаилу было всего 16 лет, в Москве вышел его перевод с французского романа широко известного тогда немецкого романиста XVIII в. Христиана Генриха Шписа. Далеко не все современные литературоведы оценивают его романы как высокохудожественные произведения. Одни только названия его особенно популярных вещей («Двенадцать спящих дев, или История о привидениях», «Иоанн Хейменг, четвертый и последний владетель земных, воздушных, огненных и водяных духов», «Старик везде и негде»…) сегодня могут вызвать только улыбку. Но в начале XIX в., особенно в России, все было иначе. Истории о рыцарях, благородных разбойниках и привидениях будоражили воображение читающей, особенно юной, публики. Достаточно сказать, что романы и истории Шписа оказали сильнейшее влияние на молодого Василия Жуковского.
Через два года Михаил Верещагин перевел другой роман, на этот раз уже с немецкого языка - «Мария, или Любовь и честность». Это было произведение плодовитого (им написано более 200 романов и повестей!) и не менее популярного, чем Шпис, немецкого автора - Августа Генриха Юлия Лафонтена. Поразительно, но в 1816 г. перевод этого романа, сделанный Верещагиным, вышел в Москве во второй раз! Живая фантазия, сентиментальность, интересные характеры - таковы были черты произведений этого автора. Как и Шписа, Лафонтена сегодня нередко относят к т. н. предромантическому направлению.
Вероятно благодаря мартинисту А.Я. Клейну Михаил вскоре проникся интересом к политическим вопросам. Он начал с жадностью читать зарубежные книги на философские и политические темы. Но особый интерес вызывали у него новости, публиковавшиеся в иностранных газетах. Эти газеты он мог найти, бывая в кофейнях, которые являлись своего рода политическими и литературными салонами для неаристократической публики, либо на почтамте, в газетной экспедиции. Вскоре Верещагин открыл для себя еще одну, и наиболее ценную, возможность получения свежей информации - через сына почт-директора, своего тезки Михаила Ключарева, который был старше его на три года и учился в Московском университете. Квартира почт-директора помещалась тогда в прикрытом «громадным двухглавым орлом с распростертыми крыльями» бельведере, что возвышался над вторым этажом главного здания почтамта. Сюда попадали даже те иностранные газеты и журналы, которые не были пропущены цензурой. Согласно принятой тогда процедуре, цензоры, «прочитав журналы и отметя запрещенное в них карандашом, по одному номеру приносили в кабинет почт-директора для просмотра; сын Ключарева брал их», а затем делился ими с Верещагиным. Так к Верещагину по-видимому и попал номер “Journal de department des bouches de l’Elbe oder Staats-und-Gelehrte-Zeitung des Hamburger unpartheischen Correspondenten”, содержавший письмо Наполеона к прусскому королю и его речь к князьям Рейнского союза. Стоит ли удивляться тому, что Верещагин не смог удержаться от того, чтобы не прочитать эти «зловредные» речи, когда новости о начавшейся войне с Наполеоном почти не доходили в Москву?
Где именно он на скорую руку перевел эти письмо и речь Наполеона - у себя ли дома, как он впоследствии утверждал, или, что скорее всего, в здании почтамта, - сказать невозможно. Но очевидно, что это произошло 17 июня 1812 г., ибо в тот же день, видимо ближе к вечеру, Михаил, не в силах сдержаться, решил прочитать эту записку своей мачехе Анне Алексеевне, сказав при этом «Вот что пишет злодей француз!» и добавив, что он сам это вычитал из немецких газет. В комнате в то время оказалась и сводная сестра Михаила девочка Наталья. Но ни мачеха, ни сестра толком ничего и не поняли, уловив только, что Наполеон будто бы собирался скоро прийти в Москву. На это, как позже показала Анна Алексеевна, ею было сказано «на счет француза некоторыми бранными словами, и что намеревается делать». Когда в тот же день, к вечеру, Николай Гаврилович Верещагин возвратился домой, Анна Алексеевна сразу и сообщила ему как могла о том, что сын Михайло перед тем читал ей. Но, как было потом сказано в следственном деле, «по недоумению своему» толком ничего пересказать не могла. Тогда муж ее, не сдерживая любопытства на предмет сей бумаги, спросил, дома ли Михайло, но узнав, что сын уехал со двора, оставил это дело до утра.
По утру же Николай Гаврилович отправил в комнату сына девочку Дарью за той самой бумагой, которую Михаил и отправил ему. Прочитав бумагу, Верещагин-старший бросил ее на комод. Позже он мог только вспомнить, что записка начиналась со слов «Венценосные друзья Франции», и все было написано «до недоброжелательства к России», а также что та записка была на простой серой бумаге в четверку листа на обеих страницах, с небольшими в нескольких местах «черчением и поправкою слов».
За обедом, когда отец и сын наконец встретились, Николай Гаврилович не преминул разразиться словами негодования в адрес французов и спросил, откуда Михаил взял эту «речь». На это Михаил прямо сказал, что получил ее от сына почт-директора Ключарева. Впрочем, впоследствии Михаил говорил, что утверждал так исключительно потому, чтобы «сделать уверение справедливости» (то есть придать достоверность). Отец, продолжая негодовать, как и ранее, бросил записку на комод. Позже, когда Николай Гаврилович стал было искать эту записку, помня, что положил ее на комод, жена сказала, что приходил (вероятно в тот же день после обеда) сын и спрашивал, где та записка. Поэтому Николай Гаврилович и решил, что сын ее и взял. На следствии Верещагин-отец определенно утверждал (и показания Анны Алексеевны это подтвердили), что читанная им за обедом 17 июня записка была на простой серой бумаге, в четверку листа; бумага была исписана на обеих страницах «с небольшим в некоторых местах черчением и поправкою слов». Но это была не та самая записка, которую видел вечером того же дня в кофейне Мешков, а позже переписывал у себя на квартире. Мешков списывал, так сказать, «чистовой» вариант, сделанный Михаилом, видимо, в тот же день, 17 июня. Но куда делась черновая бумага, брошенная столь неосмотрительно отцом на комод? Когда обер-полицмейстер Петр Алексеевич Ивашкин привез арестованного Верещагина в дом Николая Гавриловича, Михаил на вопрос об этой записке заявил, что она «была изодрана и брошена». Возможно, это так и было…
Таков в общих чертах портрет главного героя нашего рассказа, жертвы, которая вскоре будет принесена на алтарь Отечества. Обратимся теперь к тому, кто принесет сию жертву, - к графу Федору Васильевичу Ростопчину.
Об этом человеке за 200 лет написано столь много, что мы не рискуем даже пытаться изложить здесь его биографию. Отметим только, что к 1812 г. граф Ростопчин, определенно зарекомендовав себя как последовательный и яркий представитель «русской партии», активно включился в борьбу против всех «либералов», «мартинистов» и «государственных преступников», не пытаясь даже разделять их. Благодаря участию в. кн. Екатерины Павловны в мае 1812 г. император Александр I назначил Ростопчина главнокомандующим в Москве, дав одновременно чин генерала-от-инфантерии. Император пошел на этот шаг во многом вынужденно, перешагнув через свою антипатию к Ростопчину, понимая необходимость в условиях приближавшейся войны с Наполеоном опереться на «русскую партию». Так на посту почти ничем не ограниченного господина древней столицы и ее жителей оказался человек, личность которого до сих пор вызывает восхищение, сопряженное с ужасом и брезгливостью. Политическое кредо нового московского градоначальника было хорошо представлено несколькими годами раньше в его нашумевшем сочинении «Ох, французы!»: обязанностью населения является почитание начальства, а задачей начальства - сохранение незыблемости дворянских привилегий и защита их от галломанов и буйной черни. Но в голове Ростопчина (галлофоба, воспитанного на французских книжках и французской культуре!) эта схема усложнялась тем фактом, что, по его мнению, носителем идеологии политического рабства должен был быть независимый гражданин, действующий не по принуждению, а «по зову сердца». Будучи натурой яркой, талантливой и дерзкой, Ростопчин с первых шагов своей деятельности в Москве начал разыгрывать роль «народного барина», сочиняя знаменитые афишки, написанные балаганным языком, то распаляя простонародье ура-патриотическими призывами, то остужая энтузиазм, давая тем самым понять, кто же истинный хозяин в первопрестольной.
В этой обстановке основными объектами, с помощью которых Ростопчин достаточно успешно манипулировал чувствами простонародья, стали московские иностранцы и масоны. На протяжении лета 1812 г. полиция без устали выявляла и арестовывала тех иностранцев (в том числе и российских подданных), которые по неосмотрительности позволяли себе неосторожные высказывания по поводу войны с Наполеоном или были попросту оклеветаны русскими «патриотами» из корысти.
8 августа 40 «подозрительных» иностранцев, к которым добровольно присоединились 4 женщины с детьми, были погружены на баржу и под улюлюканье толпы были высланы из Москвы. Как заметил сам Ростопчин, он это сделал «для удовольствия народа».
Но еще большим преследованиям, по мнению Ростопчина, должны были подвергнуться те русские, которые принадлежали к «секте мартинистов» и, по его логике, все как один были предателями. Главнокомандующий был свято убежден в том, что русский человек, если он не сумасшедший и если он не пьян, по определению не может проповедовать то, что связано с понятием свобода.
Еще задолго до войны 1812 г. Ростопчин составил знаменитую «Записку о мартинистах» для представлению ее вел. кн. Екатерине Павловне, что фактически и открыло ему дорогу в ее «тверской» политический салон, а затем привело на пост московского градоначальника. Представляли ли остатки масонских кружков в Москве, разгромленные еще при Екатерине II, какую-либо реальную политическую силу или хотя бы малейшую опасность для государства? Исследователи уже давно и убедительно дали на этот вопрос отрицательный ответ.
Но вот что думал сам Ростопчин на этот счет, у историков нет единого мнения. Если часть критиков Ростопчина, как, например, Кизеветтер, полагали разговоры о заговоре мартинистов плодом политической игры градоначальника для придания «крикливой суетливостью» важности и веса своей особе, то большинство авторов, к которым можно отнести не только апологетов Федора Васильевича (например, Любченко и Горностаева), но и историков либерально-критического направления (скажем, А.Н. Попова или А.Е. Ельницкого), отнесли это на счет его буйного воображения и человеческой несдержанности. Впрочем, и Любченко и Горностаев достаточно легко прощают Ростопчину эту «несдержанность», прибегая к любимой для «истинных патриотов» формуле «Лес рубят, щепки летят».
Вот в такой-то обстановке, во многом предопределенной не только начавшейся войной, но личностью градоначальника, и появились в Москве «зловредные листки» со словами Наполеона. Полиция вмиг напала на след Верещагина. Уже через несколько дней благодаря ретивости квартального надзирателя А.П. Спиридонова, получившего за это в качестве награды золотые часы, Михаил Верещагин был взят полицией.
26 июня полицмейстер Егор Александрович Дурасов, ранее дослужившийся до полковника гвардии, а впоследствии ставший сенатором, провел первый допрос Верещагина. Верещагин письменно показал, что он, шедши с Лубянки на Кузнецкий мост, против французских лавок «поднял некий печатный лист, или газету, на немецком языке, с которого и перевел на русский означенные обращения Наполеона». Вполне понятно, что такое объяснение факта происхождения оригинального текста нисколько не могло удовлетворить полицию, и на следующий день тот же Дурасов допросил отца Михаила - Николая Гавриловича. Их показания заметно расходились. Николай Гаврилович заявил, что Михаил в разговоре с ним указал на сына Ключарева, от которого получил означенную гамбургскую газету. Теперь Михаил вынужден был изменить показания, и вначале подтвердил слова отца, но затем, вероятно не желая впутывать в это дело сына Ключарева, стал утверждать, будто получил газету от неизвестного чиновника газетной комнаты почтамта, где будто бы ее и перевел.
Ростопчин очень внимательно следил за ходом дознания, в особенности после того, как стало ясно, что местом появления «злонамеренной бумаги» является здание почтамта, которым руководил и даже проживал там мартинист Ключарев, давно ненавидимый Федором Васильевичем и подозреваемый им в антиправительственной деятельности. Судя по бумаге, представленной Ростопчиным в Сенат одновременно с направлением туда «дела Верещагина и Мешкова», 28 июня Ростопчин сам допрашивал М. Верещагина в своем доме на Лубянке. Желая как можно скорее вывести обитателей почтамта «на чистую воду», он приказал Дурасову немедленно отправиться вместе с Верещагиным в почтамт, дабы тот указал на чиновника, предоставившего ему гамбургский листок.
Дурасов немедленно исполнил приказание Ростопчина и через несколько минут вместе с подследственным был у здания почтамта. Однако неожиданно для Дурасова, он был остановлен возле газетной комнаты, где находилась иностранная пресса, «каким-то Дружининым», чиновником почтамта, и на все требования неизменно получал только один ответ: в почтамте ничего «без особливого повеления господина почт-директора не исполняется». Тогда Дурасов потребовал увидеть самого почт-директора, что Дружининым, который оказался экзекутором почтамта и был в чине надворного советника, было исполнено. Ф.П. Ключарев, почт-директор, увидев Дурасова, подтвердил слова своего чиновника и одобрил его действия, однако, узнав о причине прибытия полицмейстера, неожиданно и очень настойчиво объявил о желании немедленно переговорить с Верещагиным с глазу на глаз. Растерянный и присмиревший Дурасов не воспрепятствовал этому, и в течение некоторого времени («довольно долго») вынужден был ожидать, когда Ключарев закончит беседовать с подследственным в другой комнате! Наконец, Ключарев пригласил Дурасова войти к ним в комнату и заявил, что молодой человек достоин сожаления и что его дарования могут быть употреблены с пользой. Сам же «молодой человек», то есть М. Верещагин, здесь же признался, что оклеветал сына почт-директора и «других», и что автором наполеоновской прокламации является он сам; «наконец, написал пример в доказательство и отдал бывший у него в шляпе за подкладкою брульон».
Как следует понимать последнюю фразу, содержавшуюся в письме, написанном на следующий день Ключаревым Ростопчину в свое оправдание? На первый взгляд, можно было бы предположить, что этим «брульоном», спрятанным за подкладку шляпы, был черновик или один из вариантов той самой «злосчастной бумаги». Но, по всей видимости (что подтверждается и воспоминаниями Ростопчина), этой бумагой, свернутой брульоном, был текст некоего эссе, только что, в комнате Ключарева, набросанном Верещагиным. То была некая импровизация, темой которой, согласно воспоминаниям Ростопчина, было «торжество России». Эту бумагу Ключарев просил Дурасова передать Ростопчину. Данный опус не только не тронул губернатора, но еще больше обозлил.
Стоит ли говорить, как был взбешен Ростопчин, когда незадачливый полицмейстер явился к нему «не солоно хлебавши»?! На следующий день Ростопчин отправил в почтамт к Ключареву письмо с требованием объяснить как отказ допустить полицмейстера Дурасова в газетную комнату, так и факт разговора с Верещагиным: «По какому праву ваше превосходительство наедине говорили с государственным преступником Верещагиным, и потом, в каком смысле находили полезным на службу его дарование и принимали на себя за него ходатайствовать?»
Очевидно, что по здравому размышлению Федор Васильевич понял, что вся история, произошедшая 28-го числа в почтамте, стала еще одним подтверждением причастности Ключарева и других мартинистов к распространению антиправительственных слухов. Поэтому Ростопчин отстранил Дурасова от ведения следствия и перепоручил это обер-полицмейстеру Ивашкину.
Ивашкин (29-го или 30-го июня) учредил в доме Верещагиных обыск, однако никаких подозрительных бумаг обнаружить не смог. В дальнейшем при допросе мачехи Михаила Верещагина Анны Алексеевны вскрылось, что во время обыска ее пасынок (Ивашкин взял подследственного с собой), проходя мимо, сказал на ухо: «Не бойтесь: за меня Федор Петрович вступится». Это обстоятельство еще более усложнило положение Ключарева и, наоборот, вдохновило Ростопчина.
Попытаемся чуть более пристальнее вглядеться в личность третьего главного участника драмы - Федора Петровича Ключарева. Вопреки нередко встречающемуся утверждению, будто Ф.П. Ключарев был вольноотпущенным человеком графа Шереметева, он происходил из обер-офицерских детей. Родился он, скорее всего, в 1751 г. Начав службу копиистом в конторе Берг-коллегии в Москве, Ключарев затем сменил немало чиновничьих должностей вначале в Могилевской и Вятской губерниях, а затем и в первопрестольной столице, пока не стал с 1795 г. служить по почтовому ведомству. Он последовательно занимал должность астраханского, затем тамбовского и, наконец, с 1801 г. - московского почт-директора. На последнем посту он и получил чин действительного статского советника.
Еще будучи молодым человеком, Ключарев вступил в масонскую ложу, где он свел короткую дружбу с известным масоном профессором Московского университета И.Г. Шварцем и, в особенности, с Н.И. Новиковым. В 1781 г. Ключарев был мастером стула в ложе «Святого Моисея», а в 1782 г. стал одним из пяти членов директории восьмой провинции (то есть России). К тому времени за Ключаревым уже закрепилась слава вольнодумца и большого любителя наук и словесности. Он был членом «Собрания университетских питомцев» (сведения о том, получил ли Ключарев образование в Московском университете, крайне противоречивы), автором трагедии в стихах «Владимир Великий», повести «Испытание честности» и ряда мистических произведений. Но истинную признательность всех почитателей русской словесности Ключареву принесло осуществленное по его поручению Ф.Ф. Якубовичем в 1804 г. первое издание сборника Кирши Данилова «Древние российские стихотворения».
Н.И. Новиков после освобождения часто виделся с Ключаревым и даже жил у него в имении. Несмотря ни на что Ключарев никогда не прерывал связи с масонским движением; с 1809 г. он был членом ложи «К мертвой голове». Был близко знаком с М.М. Сперанским, но вместе с тем общался и с Н.М. Карамзиным и с И.И. Дмитриевым, был знаком с А.Т. Болотовым. По отзывам современников, Ключарев обладал трезвостью суждений и прямодушием, а его литературные произведения отличались образностью.
К 1812 г. Федор Петрович продолжал занимать пост московского почт-директора. Хотя к этому времени он, по-видимому, уже выдал замуж двух своих дочерей и женил трех сыновей, но младший, 20-летний Михаил, начал доставлять ему немало хлопот. Будучи студентом Московского университета, Михаил, впрочем, как и его отец, проявлял большую склонность к вольнодумству, но, однако, не отличался осторожностью. Как можно предполагать, еще до открытия «дела Верещагина» Ростопчину уже было сообщено о неких письмах, адресованных Михаилу Ключареву от какого-то француза, живущего в России, и которые московскому главнокомандующему «показались подозрительными». Наконец, тесное общение Михаила Ключарева с Верещагиным и передача последнему злополучной «гамбургской газеты» окончательно убедили Ростопчина в причастности московского почт-директора к антиправительственным действиям.
Визит Дурасова вместе с подследственным Верещагиным 28-го июня на московский почтамт был для Ф.П. Ключарева большой неожиданностью. Он испугался, прежде всего, за сына. Поэтому Федор Петрович сразу же попытался убедить Верещагина отвести подозрения от своего сына Михаила и фактически взять вину на себя. За это Федор Петрович пообещал Верещагину защиту, как со своей стороны, так, по-видимому, и со стороны своих друзей-масонов.
Сразу после получения 29-го июня записки от Ростопчина, в которой последний потребовал от Ключарева объяснений по поводу его действий, Федор Петрович попытался оправдаться. Свои действия 28-го июня он объяснял так: «…как оклеветан был тут сын мой, Императорского Московского университета студент, будто он знаком с преступником и давал ему гамбургские газеты, от публики удержанные, то по двум сим обстоятельствам не мог я не принять важного для меня участвования и спокойно при г. полицмейстере опровергал и то и другое, основываясь на том, что сын мой далек по воспитанию и нравам… от подобных знакомств. Также и потому, что ни в выданных, ни в прочих газетах ничего даже подобного не было». И далее: «Преступник сам испросил дозволение у г. полицмейстера говорить со мною и в две минуты признался, что он оклеветал моего сына и других. Тогда же призвал я г. полицмейстера, при коем Верещагин то же повторил и признался, что сам сочинил гнусную прокламацию… О ходатайстве просил он меня весьма нелепо, ибо мог ли я ему покровительствовать! Говорил же я с ним убедительно при полицмейстере, склоняя его к признанию во всем пред вашим сиятельством».
Письмо Ключарева отнюдь не охладило пыл Ростопчина в поисках скрытых и коварных врагов Отечества. 30 июня московский главнокомандующий отправил первое донесение императору о «деле Верещагина»: «Вы увидите, государь, из моего донесения министру полиции, какого изверга откопал я здесь». После кратких сведений о Михаиле Верещагине, которого воспитали «масоны и мартинисты», Ростопчин обратился к личности почт-директора: «Образ действий Ключарева во время розысков на почте, его беседа с преступником с глазу на глаз, данное ему обещание покровительствовать и пр., - все это должно убедить вас, государь, что мартинисты суть скрытые враги ваши и что вам препятствовали обратить на них внимание. Дай Бог, чтобы здесь не произошло движения в народе; но я наперед говорю, что лицемеры-мартинисты обличаются и заявят себя злодеями». В тот же день Ростопчин отправил отношение по поводу «дела Верещагина» и в Комитет министров.
Между тем, Верещагин после встречи с Ключаревым решительно изменил показания и стал упорно утверждать, что сочинителем «гнусной прокламации» является он сам, и что никакого знакомства с сыном почт-директора у него не было. Нисколько не веря словам Верещагина, Ростопчин, тем не менее, решил воспользоваться новым оборотом дела. Полагая, что благодаря масонской сети, бумаги, переведенные Верещагиным, уже получили широкое хождение, он решился на неожиданный шаг - 3 июля в «Московских ведомостях» публикует тексты письма Наполеона к прусскому королю и его речь к князьям Рейнского союза, сопроводив их информацией о «сочинителе». «Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращенный трактирною беседою».
На самом деле Ростопчин продолжал находиться в убеждении, что главным источником «злонамеренной» бумаги были, конечно же, московские масоны. 4 июля он написал Балашову: «По делу купца Верещагина ничего другого не открывается, как то, что он настоятельно утверждает быть сочинитель сообщенной от меня к вам бумаги. Отец его, гость, бывший за столом, и сам Верещагин объявляют, что Ф.П. Ключарев обещал ему покровительство и что молодой Верещагин имел знакомство в почтамте». «Коль скоро, - отписал Ростопчин председателю Государственного совета и Комитета министров Н.И. Салтыкову через несколько дней, - Верещагин будет в допросе в Уголовной палате, то я пришлю предложение, чтобы от него узнать все, что произошло между ним и г. Ключаревым наедине. А о недопущении полицмейстера исполнить данное от меня повеление, взойти в газетную, чтобы Верещагин мог узнать давшего ему газеты (как он ложно показывал), я пришлю донесение в Комитет (то есть в Комитет министров. - В.З.)».
4 июля Ростопчин решился предложить Александру I план, фактически толкавший императора на нарушение закона. «Этот Верещагин, - писал Ростопчин, - сын купца 2-й гильдии и записан вместе с ним, поэтому изъят от телесных наказаний. Его дело не может долго продолжаться в судах; но оно должно поступить в Сенат и тогда затянется надолго (Ростопчин полагал, что трое из московских сенаторов принадлежали к обществу мартинистов - И.В. Лопухин, П.С. Рунич и П.И. Голенищев-Кутузов. - В.З.). Между тем надо спешить произведением в исполнение приговора, в виду важности преступления, колебаний в народе и сомнений в обществе. Я осмелюсь предложить Вашему императорскому Величеству средство согласить правосудие с Вашею милостию: прислать мне указ, чтобы Верещагина повесить, возвесть на виселицу и потом сослать в Сибирь в каторжную работу. Я придам самый торжественный вид этой экзекуции и никто не будет знать о помиловании до тех пор, пока я не произнесу его».
6 июля в Комитете министров было заслушано отношение Ростопчина «о сочинителе появившейся в Москве прокламации Наполеоновой и письма его к Королю прусскому, московском купеческом сыне Верещагине». Было предложено Ростопчину «суд над Верещагиным» кончить «во всех местах без очереди и, не приводя окончательного решения в исполнение, представили б оное к министру юстиции для доклада Его Императорскому Величеству. Верещагина же содержать между под наикрепчайшим присмотром…»
Однако еще до того, как суд первой инстанции - Московский магистрат и надворный суд - 15 июля вынес свое решение, 11 июля в Москву прибыл император Александр I. А.Н. Попов предполагал (и мы с ним согласны), что в течение недельного пребывания государя в Москве Ростопчин, который неоднократно имел беседы с императором наедине, пытался заводить разговор о «деле Верещагина», однако Александр, по-видимому, отнесся к этому без энтузиазма и тему не поддержал. И все же Ростопчин воспользовался встречей императора с московским дворянством и купечеством, которая состоялась 15 июля в Слободском дворце, для демонстрации своих неустанных усилий по борьбе со скрытыми заговорщиками. В своих «Записках» о 1812 годе Ростопчин описал это событие так: «Следующий день был назначен государем для сообщения своих намерений дворянству и купечеству, которые собраны были к полудню в залах Слободского дворца. Ночью я узнал - и это было подтверждено мне и на другой день утром, - что некоторые лица, принадлежавшие к обществу мартинистов, сговорились между собою, чтобы, когда государь предложит собранию набор ратников, поставить ему (государю) вопросы: каковы силы нашей армии? Как сильна армия неприятельская? Какие имеются средства защиты? и т. п. Намерение было дерзкое, неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах; но насчет исполнения его я вовсе не испугался, зная, что указанные господа столь же храбры у себя дома, сколько трусливы вне его. Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что надеюсь представить государю зрелище собрания дворянства верного и что я буду в отчаянии, если кто-либо из неблагонамеренных людей нарушит спокойствие и забудется в присутствии своего государя, - потому что такой человек, прежде окончания того, что захотел бы сказать, начнет весьма далекое путешествие. Дабы сообщить более вероятия таким моим речам, я приказал поставить недалеко от дворца две повозки, запряженные почтовыми лошадьми, и подле них прохаживаться двум полицейским офицерам, одетым по-кучерски. Если кто-либо из любопытных осведомлялся, для кого назначены эти повозки, они отвечали: “А для тех, кому прикажут ехать”».

А.Д. Балашов. Гоавюра Шефлера с портрета А. Г. Варнека.
18 июля император Александр I отбыл из Москвы, и Ростопчин с удвоенной энергией продолжил борьбу с мартинистами и «паникерами». 23 июля Ростопчин уведомил министра полиции А.Д. Балашова о том, что «бывший студент Урусов, не пьяный, в трактире стал доказывать, что приход Наполеона в Москву возможен и послужит к общему благополучию», за что был посажен в сумасшедший дом; что взят под караул «живущий в Петровском священник иностранец Буфф» за подозрительную переписку с лицами из Риги и Франции; о том, что «вчера на немецком рынке прибили француза за то, что он дурно говорит по-русски»… А далее, как бы мельком: «В городе еще утверждают, что в.п. имели тайное свидание с Ключаревым». И сразу затем - перешел на другую тему. Эта фраза, словно случайно брошенная Ростопчиным, министра полиции если и не испугала, то не на шутку взволновала! 30 июля он немедленно и собственноручно после получения письма отписал Ростопчину из Петербурга: «О тайном моем будто бы свидании с К. слухи неосновательны, ибо нет тому ни повода, ни причин, а явно был он у меня один раз». Так все-таки Балашов виделся с Ключаревым! Более того, в течение нескольких лет Ключарев информировал Балашова не только о важных новостях, почерпнутых из прессы, но и о различных настроениях и слухах в Москве, информацию о которых почт-директор, по-видимому, черпал благодаря перлюстрации проходившей через него корреспонденции. Это заставляют предположить два письма, отправленные Ключаревым Балашову в январе 1810 г., и опубликованные в 1889 г. в «Русском архиве». Знал ли об этом Ростопчин? В любом случае, он был уверен, что у Ключарева сильные связи в верхах. Тем еще более московский главнокомандующий, отличавшийся смелым и задиристым нравом, должен был почувствовать азарт к тому, чтобы испытать свою собственную силу в праведной борьбе с подлинными и с мнимыми врагами Отечества.
15 июля общее присутствие московского магистрата совместно с надворным судом пришло к мнению по делу Верещагина и Мешкова: «Купеческого сына Михайлу Верещагина лишить доброго имени и, заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу в Нерчинск; а дерзкое сочинение его истребить. Секретаря Мешкова, лиша чинов и личного дворянского достоинства, написать в военную службу».
20 июля (подписано было 25 июля) это мнение было подтверждено определением 1-го департамента московской палаты уголовного суда, но, однако, с важной поправкой: «Купеческого сына Михайлу Верещагина за вымышленное им к возмущению клонящееся сочинение, следовало бы казнить смертию, а по указу 1754 года сентября 30-го наказать кнутом, но как он Верещагин сын купца 2-й гильдии, которая силою городового положения 113-й статьи от телесного наказания освобождается, то не наказывая его телесно, а по основанию городового положения 86-й статьи, лишить его Верещагина доброго имени и по силе указа 1754 г., сентября 30-го, заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу в Нерчинск»; «губернскому секретарю Мешкову за неосторожное его любопытство отношением с упомянутого дерзкого сочинения копии и выпущение оной в другие руки, вменяя в наказание содержание под караулом, усугубить содержанием же в смирительном доме, а притом наистрожайше подтвердить, чтоб он впредь таковые вредные разсеивания старался удерживать…»
Несмотря на то что дела подобного рода в Сенате, как правило, уже не рассматривались, Ростопчин, желая не только ужесточить приговор, но и официально привлечь к делу Ключарева и московских мартинистов, перенес дело в Сенат. В своем рапорте от 1 августа, поданном в 6-й департамент Сената, он указал, что «находит преступление Верещагина самоважное и в том случае, если бы он единственно перевел Прокламацию и речь Наполеона; но как он есть сочинитель сей дерзкой бумаги, и писал ее именем врага России», то по его, Ростопчина, мнению, Верещагина следовало наказать кнутом и сослать вечно в Нерчинск в работу. Таким образом, Верещагин, оговорив себя и отведя обвинения от сына Ключарева и от самого почт-директора, усугубил свою собственную вину. Это, в частности, дало Ростопчину повод перенести дело в Сенат, требуя ужесточения приговора.
К рапорту Ростопчина было приложено «мнение главнокомандующего в Москве». В нем говорилось, что Верещагин первоначально при допросе упорно стоял на том, что речь и письмо Наполеона он перевел из немецкой газеты, сказывая сперва, что ее поднял близ Кузнецкого моста, потом, что получил от сына г. Ключарева, а наконец от одного почтамтского чиновника в газетной, где будто ее и переводил. Поэтому, как говорилось далее, московский главнокомандующий, принимая в соображение вышеприведенное указание Верещагина, посылал его из своего дома с полицмейстером полковником Дурасовым в почтамт для отыскания там того, кто Верещагину, по словам его, дал газету. Далее Ростопчин изложил обстоятельства происшествия в почтамте, указав, что почт-директор был с Верещагиным в отдельной комнате довольно долго наедине, и что впоследствии, уже при обыске в доме отца Верещагина, подследственный сказал мачехе о том, что Ф.П. Ключарев обещал за него заступиться. Информировав Сенат о действиях Ключарева, Ростопчин не преминул уведомить, что государь император «соизволил указать Дело сие решить немедленно и без очереди».
Между тем, Сенат дал свое определение по делу только 19 августа. Он решил, что хотя от «пасквиля», писаного Верещагиным, ни малейшего вреда не последовало и что он написан был единственно из ветрености мыслей, но в виду того, что он наполнен дерзкими выражениями против Российского государства, от имени врага России, что делает Верещагина изменником Отечества, сей последний, по мнению Сената, должен был подвергнуться наказанию кнутом 25 ударами и ссылке в каторжную работу в Нерчинск. Писаный же им «пасквиль» следовало публично сжечь под виселицей. Мешкова, «списавшего дерзкое сочинение и сделавшегося орудием к рассеянию оного по разным рукам, лиша чинов и соединенного с оными дворянского достоинства, написать в солдаты, а буде окажется неспособным к воинской службе, то сослать в Сибирь на поселение. 1-му департаменту московской палаты уголовного суда следовало сделать строгий выговор за неправильное освобождение Верещагина от телесного наказания.
Наконец, в связи с «неблаговидными поступками» московского почт-директора Ключарева, «оказанными им при исследовании об означенном преступнике Верещагине полициею», и показавшимися подозрительными, Сенат решил: «Об оных строжайше исследовав, учинить суждение на основании законов». Так как Сенат счел рассмотренное дело чрезвычайно важным, следовало до приведения приговора в исполнение представить о нем через министра юстиции рапорт государю императору.
Между тем, Ростопчин продолжал с большим пылом выискивать в Москве изменников, запугивать иностранцев и кормить русское простонародье разными слухами, всячески возбуждая в нем праведный патриотический дух. 26 июля Ростопчин сообщил Балашову: «Известие из Твери… о разбитии Саксонского корпуса войсками г-на Тормасова, обрадовало город и разозлило народ и против немцев. Все движение к добру, и сие находится даже в разглашениях. 60 человек будто видели, и все верят, что на Даниловском монастыре на 20-е число показалось пред светом над крестом церкви сияние, посреди коего Спаситель, благословляющий Москву. Барыня видела сон (и ему верят), что государь изволит стоять в короне, что на него хочет кидаться леопард, коего удерживают Егорий и Никола веревкой, и наконец его удавили». И далее: «Живущий у меня в доме и прежде долго живший повар француз Турне вздумал толковать на кухне благоденствие царствования Наполеонова дарованием свободы. Но люди сие на него донесли. Он в полиции, послезавтра, яко мещанин на Конной, будет высечен плетьми и отослан в Оренбург».
Из книги Теория стаи [Психоанализ Великой Борьбы] автора Меняйлов Алексей Александрович Из книги Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры автора Хлевнюк Олег Витальевич«Ленинградское дело» и «дело Госплана» Постоянные атаки Сталина против членов Политбюро, их личное и политическое унижение на фоне чисток 1930-х годов были сравнительно безобидными. Однако «ленинградское дело», в результате которого были физически уничтожены два
Из книги Московские обыватели автора Вострышев Михаил ИвановичСумасшедший Федька. Московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) С легкой руки Льва Николаевича Толстого московского главнокомандующего графа Федора Васильевича Ростопчина принято считать квасным патриотом и вздорным глупцом. «Этот
автора Бельская Г. П.Владимир Земцов Граф Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года В понедельник, 2 сентября 1812 года смотритель Московского тюремного замка Иванов поднялся очень рано. Днем накануне, в воскресенье, надворный советник Евреинов сообщил ему, что «есть распоряжение
Из книги Московские против питерских. Ленинградское дело Сталина автора Рыбас Святослав ЮрьевичГлава 8 «Дело Жукова», «Дело ленинградских журналов» Следующим после «дела авиаторов» стало «дело Жукова». 20 мая 1945 года начальник тыла Красной Армии генерал армии A. B. Хрулев направил заместителю Председателя Совета Министров СССР В. М. Молотову служебную записку:«В
Из книги Наполеон в России автора Верещагин Василий ВасильевичНАПОЛЕОН I В РОССИИ В КАРТИНАХ В. В. ВЕРЕЩАГИНА С ПОЯСНИТЕЛЬНЫМ ОПИСАНИЕМ КАРТИН Изучение жизни и деятельности такого вершителя судеб, своего времени, каким был Наполеон I, представляет большой интерес, – говорю об изучении разностороннем, исключающим поклонение легенде.
Из книги Отечественная война 1812 года. Неизвестные и малоизвестные факты автора Коллектив авторовГраф Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года Владимир Земцов В понедельник, 2 сентября 1812 года смотритель Московского тюремного замка Иванов поднялся очень рано. Днем накануне, в воскресенье, надворный советник Евреинов сообщил ему, что «есть распоряжение
Из книги История русской культуры. XIX век автора Яковкина Наталья Ивановна§ 4. ВОЙНА НА ПОЛОТНАХ В. В. ВЕРЕЩАГИНА Новое в батальной живописи второй половины XIX века было сказано творчеством В. В. Верещагина.Вся жизнь художника была великим подвигом во имя мира и человечества. «Передо мной, как перед художником, война, - писал В. В. Верещагин, -
Из книги Масонство, культура и русская история. Историко-критические очерки автора Острецов Виктор Митрофанович Из книги 1812 год. Пожар Москвы автора Земцов Владимир Николаевич2.2 Ф.В. Ростопчин и уголовники В понедельник, 2 сентября 1812 г., смотритель Московского тюремного замка Иванов поднялся очень рано. Днем накануне, в воскресенье, надворный советник Евреинов, стряпчий губернской уголовной палаты, сообщил ему, что «есть распоряжение
Из книги Этюды любви и ненависти автора Дудаков Савелий ЮрьевичДЕЛО Черниговского Губернского правления По прошению еврея, проживающего в Чернине Остерского уезда, Боруха Мордуха Нилуса о разрешении ему перейти на жительство в соседний поселок с. Чернина. 2 отделение 3 столНачалось сентября 11 дня 1897 годаКончилось декабря 10 дня 1897
Из книги Жизнеописание Чжу Юаньчжана автора У Хань2. Дело о пустых бланках и дело Го Хуаня Алчность и коррупция были характерными чертами бюрократического правления в феодальном обществе. Всеми средствами добывать деньги, скупать земли, иметь побольше домашних рабов, получать возможно большие чины и как можно больше
автора Ферр ГроверГлава 4 «Дела» на членов ЦК ВКП(б) и связанные с ними вопросы Дело Р. И. Эйхе Н. И. Ежов Дело Я. Э. Рудзутака Показания А. М. Розенблюма Дело И. Д. Кабакова С. В. Косиор, В. Я. Чубарь, П. П. Постышев, А. В. Косарев «Расстрельные списки» Постановления
Из книги Оболганный сталинизм. Клевета XX съезда автора Ферр ГроверГлава 6 «Попрание ленинских принципов национальной политики» Массовые депортации «Ленинградское дело» «Мингрельское дело» Отношения с Югославией «Дело врачей-вредителей» 39. Массовое выселение народов Хрущёв: «Вопиющими являются действия, инициатором
Попробуем в описании убийства Верещагина понять законы отбора материала, проследить, в какой закономерности происходит отбрасывание деталей, их уточнение, развитие оставленных черт в своеобразную систему, так чтобы их идейная направленность становилась максимально ясной и действенной.
Нам кажется интересным проследить на конкретном и небольшом материале, как, создавая художественное произведение, писатель отказывается от интересного, важного, но частного материала, для того чтобы ввести в роман материал обобщенный. При этом писателю приходится отказываться и от целого ряда уже найденных сцен. Ему приходится превращать знание историческое в художественно-логическое, то есть такое, все части которого внутренне оправданы в самом произведении.
Толстой собирал сведения о деле Верещагина. Для него был подобран целый ряд материалов, но он предпочел обратиться к живому свидетелю событий.
Н. П. Петерсон, помогавший Толстому собирать материал для «Войны и мира», рассказывает: «Помню, я собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Л. Н. что-то долго не приходил, а когда пришел и я указал ему на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика - очевидца этого события, тот ему рассказал, как это происходило» .
Вероятно, отсюда в черновых записях и сохранились характеристики личности обитателя сумасшедшего дома, друга Верещагина. Вероятно, старик, беседа с которым так заинтересовала писателя, послужил поводом для изображения Ивана Макарыча, фигура которого была выписана подробно, но осталась в черновиках.
Иван Макарыч толстовских черновиков был робким студентом Московского университета, много читал, спорил с раскольниками, увлекался масонами и в результате попал в сумасшедший дом. Писатель считает его не сумасшедшим, а «зачитавшимся», и отмечает, что в больнице Иван Макарыч помогал служащим вести счетоводство.
Иван Макарыч приходит к Пьеру для того, чтобы граф заступился за Верещагина. Идет портрет человека: «Лицо его теперь было худо, обросшее неровными клочками бороды, и желто. Черные, агатовые зрачки его бегали тревожно и низко по шафранно-желтым белкам» .
Детали описания окажутся использованными в окончательном тексте, но там они даны на мгновение. Большой эпизод превратился в несколько строк. В черновиках Иван Макарыч не только свидетель преступления, совершенного Растопчиным, - он говорит над трупом Верещагина и вызывает раскаяние толпы.
В окончательном тексте Толстому не понадобился обличитель: он раскрыл отрезвление толпы анализом внутреннего состояния людей.
Сокращение роли Ивана Макарыча обусловливается и тем, что Толстой вообще выбрасывает эпизоды, связанные с масонством, беря психологию более широких народных групп. Уменьшена роль Верещагина, сократилась его внешняя характеристика, изменена даже поза. Вся тональность сцены изменена. В одном из первоначальных набросков написано: «Общее впечатление его фигуры с бритой головой и кандалами было страшное, но стоило немного вглядеться в него, чтобы заметить в его позе и на его молодом лице два борющиеся выражения: молодеческого щегольства и удальства и вместе с тем робости, которую он старался подавить.
Он стоял, отставив ногу (кандалы висели между колен), согнувшись одним плечом, держал одну руку в кармане, а другой с тонкими пальцами приглаживал волосы и, полуулыбаясь, поглядывал на толпу. Ему, видимо, весело и страшно было оттого, что он знал, что пришла решительная минута, и оттого, что он боялся за свои силы в эту решительную минуту» .
Здесь Верещагин показан как смелый и решительный человек. Основанием такой характеристики является то, что Верещагин не дал тех показаний против масонов, которых добивался от него Растопчин.
Толстой долго работает над созданием фигуры Верещагина. Вот еще один из первоначальных набросков: «…стоял молодой, чернобровый, красивый молодой человек с тонкими губами, горбатым носом и усталыми глазами. Голова его - одна половина обритая - заросла коричневой щеткой, другая была покрыта вьющимися русыми кудрями. На нем был крытый синим сукном лисий тулупчик и высокие, с сморщенными голенищами, тонкие сапоги, и на ногах висели цепи» .
Здесь много еще не до конца просеянных художником деталей. Деталь о полушубке Верещагина взята, вероятно, Толстым из книги А. Д. Бестужева-Рюмина «Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году». Бестужев-Рюмин на странице 77 сообщает, что Верещагин был «в тулупе на лисьем меху».
Что остается в окончательном тексте?
«Молодой человек этот был одет в щегольской, когда-то крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик е в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека».
Количество деталей убыло, они отобраны. Сохранилась подробность о волосах; деталь эта оставлена потому, ito Верещагин был осужден на каторгу, а не на смерть (смертникам голову не брили). Растопчин убивает человека вопреки приговору. Лисий тулупчик - это характеристика того, как прежде одевался Верещагин: тулупчик противопоставлен арестантской одежде.
Во всей характеристике подчеркивается сломленность человека. Верещагин раскрыт заново. Это слабый человек, отданный в руки растерянного, лживого и все еще сохранившего какую-то власть Растопчина. Характеристика Верещагина, прежде даваемая от автора, теперь заменена характеристикой - действием и анализом физического состояния. Выделена новая деталь: слабая, тонкая шея и жила за ухом.
«- Граф!.. - проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. - Граф, один бог над нами… - сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать».
Вместо прежнего утверждения, что Верещагину было «весело и страшно», появилась деталь, что у Верещагина «робкий и вместе театральный голос».
Вся сцена кончается описанием того, как за ноги оттаскивают труп Верещагина и «окровавленная, измазанная в пыли, мертвая, бритая голова на длинной шее, поворачиваясь, волочилась по земле».
Показ смерти дан на использовании уже подготовленных деталей. Действенные детали выделяются, утверждаются и развертываются в определенной смысловой последовательности. Мы ощущаем всю неправомерность убийства. Народ глядит на то, как оттаскивают тело, «с болезненно-жалостным выражением…».
Растопчин едет; покойное покачивание рессор успокаивает его. Он думает, что то, что сделано, - сделано для общего блага: «как повторяет это понятие блага других людей всякий человек, совершивший преступление».
Возвратимся к Ивану Макарычу, тому старику из сумасшедшего дома, которого так хорошо знал Толстой и которого он так хорошо изобразил в черновиках.
Растопчин, приказав выпустить сумасшедших, едет по Сокольничьему полю и видит, как вдали нерешительно идут группы людей в белых одеждах. Один из сумасшедших бежит наперерез.
Переходим к окончательному тексту: «Обросшее неровными клочками бороды сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам».
Сумасшедший произносит слова: «- Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых, они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… Растерзали мое тело».
Только после этой сцены Толстой описывает растерянное полураскаяние Растопчина, его смутное ощущение, что он сделал что-то не то, сказал не те слова.
Народу не нужен был обличитель, чтобы он понял свое преступление, потому что преступление народа случайно и вызвано науськиванием Растопчина. Обличение нужно для Растопчина, и оно дано в кратчайший момент его столкновения с им же выпущенным сумасшедшим.
Действие стало стремительным. Из большого описания понадобился только один момент: вместо сознательней проповеди масона, друга Верещагина, дается отрывок бреда сумасшедшего.
В черновом варианте рядом с высоким сумасшедшим, который бежит с трагическими словами о смерти и воскресении, бежал другой, который кричал: «Морковь, морковь, картуз, картуз!».
Эта деталь должна была снять впечатление преднамеренности реплики сумасшедшего, говорящего об убийстве, но Толстому она не понадобилась. Появление сумасшедших в окончательном тексте подготовлено короткой репликой Растопчина с приказом выпустить сумасшедших, так как теперь «сумасшедшие даже управляют армией».
Подлая шутка Растопчина, направленная против Кутузова, подготовляет его встречу с главнокомандующий. В этой встрече Растопчин оказывается смятым правотой Кутузова.
Конкретность необычайного по своей обстановке убийства производит на нас большее впечатление, чем описание обычной, так сказать законной казни. Неловкость убийства, нерешительность убийцы - все это дано не при помощи нагромождения взятых из исторических источников деталей, а развертыванием двух-трех моментов; в результате раскрывается преступная ненужность всей деятельности Растопчина, а не только одного совершенного им убийства.
«Верещагин не просто только художник, а нечто большее», - так отзывался о нём другой великий художник - Иван Николаевич Крамской. Проницательный живописец сразу понял, что перед ним стоит гений, и спустя годы мнение не изменил: «Несмотря на интерес его картинных собраний, сам автор во сто раз интереснее и поучительнее».
7 марта в Новой Третьяковке состоится открытие выставки «Василий Верещагин». Гости смогут познакомиться с многогранным творческим миром художника, приобщиться к диалогу культур и получить новые знания в отдельном образовательном пространстве.
Василий Васильевич Верещагин - не просто знаковая фигура в изобразительном искусстве второй половины XIX – начала XX века. Он стал примером настоящего репортера-баталиста. Не наблюдатель, а участник военных действий, он тем не менее подвергался критике за свои выставки в других странах. Его называли космополитом, обвиняли в шпионаже, ругали даже за то, что он не живет в России. Но художник упрямо шел по намеченному пути и свои картины продавал только соотечественникам. Самодостаточный и упорный, Верещагин был предан русской идее от и до.
Он начал свой творческий путь с графики и впоследствии всегда делал графические зарисовки для создания картин - это был «рабочий материал» художника. С самого детства война тянула его как магнит. Верещагин горел идеей увековечить на своих полотнах реальные военные действия, поэтому и предпочел живопись. Как лучший ученик Морского кадетского корпуса, он был представлен царской семье. Великий князь Константин Николаевич был в восторге от Верещагина: «Проси чего хочешь». Василий Васильевич от царского подарка не отказался и попросил… рапорт об отставке. После этого жизнь художника кардинально изменилась: все, включая родителей, были в гневе. Он был лишен наследства, а царская семья навсегда прогнала его со двора. Это не сломило характер Верещагина, и в дальнейшем он стал реформатором батального жанра. Он отошел от царившего в то время казенного патриотизма и начал изображать настоящую войну: с жестокостью, поражениями русских отрядов, смертью простых солдат. Как-то раз он воскликнул: «…больше батальных картин писать не буду - баста! Я слишком близко к сердцу принимаю то, что пишу, выплакиваю (буквально) горе каждого раненого и убитого».
Верещагин писал полотна и на мирные темы. При их создании он также использовал новаторские художественные приемы. Кстати, мало кто знает, что именно он был первым кандидатом на соискание Нобелевской премии мира за пацифистскую направленность своих картин.
Талантливый человек талантлив во всём, и Василий Верещагин - прямое тому доказательство. Еще при жизни художника было издано 12 книг с его произведениями. Это были литературные зарисовки из поездок, воспоминания. Сам художник называл их «листки из записной книжки». Такие отрывки публиковались в газетах и были очень интересны читателям.
Политики в опиумной лавочке. Ташкент. 1870. Холст, масло.
В 25 лет Верещагин получил боевое крещение. В 1867 году Туркестанский генерал-губернатор генерал К. П. Кауфман пригласил его в Самарканд в качестве художника. Верещагин вместе с русскими солдатами с честью выдержал тяжелую осаду города, но получил ранение. Выдающаяся роль Верещагина в этой обороне принесла ему орден Святого Георгия 4-го класса. Он с гордостью носил награду, хотя и вернулся из Самарканда подавленным. Опустошенный и разочарованный, он понял, что должен писать картины с «глубоким чувством историка и судьи человечества». К сожалению, в России к этому признанию отнеслись прохладно. Более того, художника обвинили в антипатриотизме и сочувствии к врагу. Даже царь Александр II, побывав на выставке, хоть и подметил с грустью, что «так оно и было», видеть автора не пожелал.
«Я стою на нелицемерной дороге», - так говорил о себе Верещагин. Он желал поведать миру о настоящих ужасах войны, в которой нет правых и виноватых. Даже неприязнь императорского двора не стала преградой для художника. Он находил поддержку и понимание в Петербурге, Берлине, Лондоне и других городах Европы.
С 1882 по 1903 г. Верещагин много путешествует, на этот раз выбирая такие страны, как Индия, Палестина, Сирия. В скором времени «объявилась» очередная война - на этот раз русско-японская, которая стала роковой в жизни художника. Он отправляется на фронт всё такой же высокий, сильный, подтянутый, но с уже поседевшими висками. Увы, внезапная смерть, которую художник так часто писал в своих картинах, настигла его: Верещагин погиб при взрыве броненосца «Петропавловск» в Порт-Артуре (ныне Люйшунь, Китай).
«Уже в первой, “Туркестанской серии”, Верещагин пишет совершенно иные, непривычные русскому зрителю батальные сцены. Например, картина “Смертельно раненный”. В центре полотна - солдат, а не генерал. Мы видим его бегущего без оружия за миг до смерти. Такие работы художника переворачивали сознание русского общества, это был прорыв. Но, к сожалению, пошла волна сильнейшей критики».
Сотрудникам музея удалось в рамках одной экспозиции «уместить» такую масштабную личность и столь разноплановое творчество. Как рассказывает куратор выставки, научный сотрудник Третьяковской галереи Светлана Капырина, «…прежде всего, мы хотели показать, что Верещагин был необыкновенным человеком. На выставке он предстает как художник, этнограф, литератор, философ, военный. Выбрав такой широкий путь, мы стремились создать особую атмосферу, чтобы наши гости прикоснулись к культуре других цивилизаций и поняли всю глубину картин Верещагина».

Смертельно раненный. 1873. Холст, масло.
Третьяковская галерея, «Туркестанская серия»
В Новой Третьяковке представят более 180 живописных полотен и около 140 графических работ мастера. Кроме того, здесь продемонстрируют около 80 предметов прикладного искусства, архивные материалы и фотографии. Такая обширная экспозиция была собрана благодаря сотрудничеству с музеями Москвы и Санкт-Петербурга, художественными музеями Нижнего Новгорода, Ярославля, Череповца, Серпухова, Великого Новгорода и других городов, частными коллекционерами.
Чтобы сделать знакомство с работами художника более интересным и доступным, в экспозиции разместят мультимедийные панели и этикетки с материалами о каждом экспонате и этнографическими комментариями.
Организаторы учли стремление самого автора всегда сохранять целостность показа своих картин. Поэтому произведения будут демонстрироваться сериями, посвященными его походам и путешествиям: «Туркестанская», «Балканская», «Индийская», «Японская», «Палестинская», а также «Русская серия» и «Трилогия казней».
«Встречает» гостей на выставке сам Василий Васильевич, наблюдающий за посетителями с незаконченной картины кисти Ивана Николаевича Крамского. Узнать подробно о личности Верещагина гости смогут в блоке архивно-документальных материалов. В витринах представят письма художника, семейные фотографии, опубликованные при жизни книги, статьи и каталоги. Здесь также представят подробное генеалогическое древо и летопись жизни и творчества мастера.
Экспозицию откроют графические работы. Уже в них виден выдающийся талант художника, который с огромной силой раскроется в «Туркестанской серии». Она была показана на первой персональной выставке Верещагина в Хрустальном дворце в Лондоне в 1873 году, а затем весной 1874 года в Санкт-Петербурге. Тогда выставку посетил и будущий император Александр III, который после громко заявил: «Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию…».

Двери Тимура (Тамерлана). 1872. Холст на холсте, масло. Третьяковская галерея, «Туркестанская серия»

Афганец. 1867-1868. Этюд, холст, масло. Третьяковская галерея, «Туркестанская серия»

Богатый киргизский охотник с соколом. 1871. Холст, масло. Третьяковская галерея, «Туркестанская серия»
В этой серии нераздельно переплелись темы войны и мира. В своих полотнах художник «рассказывает» о военных событиях периода присоединения к России земель Средней Азии и знакомит зрителей с совершенно иной культурой. В центре экспозиции знаковая картина - «Апофеоз войны». Пирамида черепов среди раскаленной степи, обугленные деревья и кружащие вороны. Автор сделал надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим». Как писал отечественный художественный критик Владимир Васильевич Стасов, «…тут явилось в картине нечто более драгоценное и более высокое, нежели необычайная верещагинская виртуальность красок: это глубокое чувство историка и судьи человечества…».
«Отдохнуть» от тяжелой военной темы гости смогут в «Индийской серии». Здесь нет ни одной батальной картины. Все полотна «вкусные и пряные». Торговцы, факиры, слоны - многовековая культура Индии развернется перед вашими глазами. Для большего погружения в экзотичную атмосферу древней страны во встроенных нишах между полотнами будут размещены предметы прикладного искусства. «Балканская серия», по мнению Светланы Капыриной, самая сильная у Верещагина. На Балканской войне он потерял родного брата Сергея. Второй брат, Александр, был тяжело ранен, сам художник также получил серьезное ранение. Боль, ужас, тревога от пережитого остались в сердце живописца на всю жизнь. И мгновения беспощадной войны вы увидите на картинах «Побежденные. Панихида», «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой» и других полотнах.

Апофеоз войны. 1871. Холст, масло. Третьяковская галерея, «Туркестанская серия»

Мавзолей Тадж-Махал в Агре. 1874–1876. Холст, масло. Третьяковская галерея, «Индийская серия»
В основе «Русской серии» Верещагина - события войны 1812 года. Впервые художник обращается к историческим сюжетам, а не современным военным действиям. На выставке этот цикл будет представлен триптихом из Государственного Исторического музея. В «Русской серии» около сотни этюдов, и, как ни странно, ни одной картины. Объяснение простое: параллельно с этой темой Верещагин работал над большой серией полотен, посвященных войне 1812 года.

Побежденные. Панихида. 1878-1879. Холст, масло. Третьяковская галерея, «Балканская серия»
«Понятно, что Верещагин писал войну, но он был нацелен на прогресс, узнавание новых цивилизаций. Поэтому мы захотели сфокусироваться именно на диалоге культур и дать возможность посетителям всех возрастов “прикоснуться” к Средней Азии в нашем образовательном пространстве выставки».
Светлана Капырина, куратор выставки, научный сотрудник Третьяковской галереи

Моти Масджид («Жемчужная мечеть») в Агре. 1874-1876. Этюд, холст, масло. Третьяковская галерея, «Индийская серия»

Два факира. 1874-1876. Этюд, дерево, масло.
Третьяковская галерея, «Индийская серия»
Отдельным разделом станет цикл «Трилогия казней». Полотна будут выставляться в столице впервые, и это настоящий подарок москвичам. Работа Верещагина «Казнь заговорщиков в России» хранилась в запасниках Государственного музея политической истории России в Санкт-Петербурге. После реставрации специалистами Государственной Третьяковской галереи она впервые за почти 40 лет будет показана публике. Полотно «Распятие на кресте у римлян» хранится в частной коллекции и будет привезено на время выставки в Новую Третьяковку. Нахождение последней картины трилогии неизвестно.
Завершающий период творчества Верещагина представят «Палестинской» и «Японской» сериями. Последние работы художника волей-неволей заставляют задуматься о героизме русских солдат и потерях нашего народа в войнах XX века.
Работы Верещагина дают широкие возможности для их использования в образовательном процессе. На картинах достоверно отражены исторические события, в мельчайших подробностях прорисованы обмундирование солдат тех времен и предметы их обихода, с ювелирной точностью передана архитектура городов, типы людей, национальные костюмы.
Выставка «Василий Верещагин» станет в каком-то плане экспериментом для Государственной Третьяковской галереи. Помимо основной экспозиции, в здании на Крымском Валу впервые весь антресольный этаж отдадут под образовательные программы. Они будут посвящены странам, в которых побывал Верещагин.
Посетителей ждут показы фильмов, лекции, тематические мероприятия, мастер-классы. Гости смогут примерить азиатские халаты и тюбетейки, подержать в руках керамические изделия и седла, и, конечно, сделать фотографии на память. Для педагогов московских школ запланировано проведение бесплатных показов выставки и конференций, чтобы они могли дополнить свои уроки новыми уникальными материалами. Выставка продлится по 15 июля. В летние месяцы организаторы обещают отдельную культурную программу и «национальные праздники». На них можно будет глубже познакомиться с традициями и жизнью народов Востока, герои которых навсегда врезаны в память полотен Василия Верещагина.
текст: Л. Серебрянник
фото предоставлены пресс-службой Государственной Третьяковской галереиГр. М. Д. Гурьева.
И это так очевидно, так неизбежно вытекает из всего общественного настроения и внутреннего мира, что когда обстоятельства принуждают, во что бы то ни стало найти внутреннего врага, - его найти необычайно трудно. Во всех печальных обстоятельствах общественной, семейной и личной жизни, несчастие становится легче переносимо, когда есть возможность указать его виновника. Кого винить в несчастиях войны, в тех тяжелых испытаниях, которые связаны с вторжением неприятеля в страну? Правительство? Об этом говорят вскользь, как после Аустерлицкого поражения. Тайную «смуту», врагов внутренних, «крамолу», изменников? Где они? Мысль о необходимости экскурсий в эту область является порывом вдохновения у Ростопчина, побуждаемого настоятельной необходимостью как-нибудь снять с себя тяжелую ответственность и отвлечь от себя внимание взбудораженной толпы. Только вызванный такими исключительными обстоятельствами порыв вдохновения мог создать внутреннего врага из беспомощной фигуры молодого Верещагина.
В чем вина несчастного купчика, тщетно взывающего к Ростопчину: «граф, один Бог над нами?» В каком отношении к общему настроению находится она?.. Тщедушная фигура Верещагина проходит перед нами случайным эпизодом, еще более демонстрируя отсутствие в обществе элементов протеста и критики. И когда толпа, подстрекаемая Ростопчиным, кончает расправой над Верещагиным, в ней, в этой толпе, нет того озлобления и чувства справедливой мести, которые непременно должны сопровождать всякое проявление народного самосуда над тем, кого толпа считает своими действительными врагами. Расправа над Верещагиным - исключение и, как это в большинстве случаев бывает, исключение подтверждает правило об отсутствии у того общества стремления к поискам внутренних врагов и заподозреваниям соседа…
Гр. И. С. Лаваль.
Если бы то настроение, которое преобладало в момент, изображенный в начале «Войны и мира», могло благополучно сохраниться до вторжения французов в Россию, то принятый ходом событий характер «Отечественной войны» был бы легко объясним. Но уроки времени, войн, напрасных ожиданий меняют настроение общества. И эта перемена отмечена Толстым. До 1812 года не остается во всей силе ни довольство распоряжениями правительства, ни восторженное преклонение перед личностью Александра I. Личные удары, наблюдения, опыт заставляют видеть то, на что до того времени не открывались глаза. По получении (оказавшегося потом неверным) известия о смерти сына, старый князь Болконский уже не может удержаться от общих выводов о бессмысленности распоряжений, «губящих армию, лучших русских людей и русскую славу». «Мерзавцы, подлецы! - закричал старик, отстраняя от нее (от княжны Марьи) лицо. - Губить армию, губить людей! За что?..» - «Батюшка, скажите мне, как это было?» спросила она сквозь слезы. «Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу…»
Личные несчастия, впечатления действительности, все те наблюдения, которые пришлось сделать князю Андрею во время его постоянных сношений с военным начальством, во время свиданий с Аракчеевым, со Сперанским, перевертывают его прежние мнения о войне, и война, о которой в разговоре с Пьером после вечера у Анны Павловны он отзывается, как о чем-то неизбежном, необходимом, как о деле, в котором он сам может найти исход из неприятностей петербургской жизни, оказывается, накануне Бородинского сражения, уже «самым гадким делом в жизни». И еще до Бородинского сражения, до нашествия французов, но после вынесенных впечатлений от войн и наблюдений над русскими порядками он говорит тому же Пьеру, что после Аустерлица ни за что не пойдет служить в армию…
«В начале зимы (1811 года), князь Николай Андреевич Болконский с дочерью приехал в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра и потому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреевич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству».
Графиня Лаваль.
Появилась «оппозиция», пока еще не вполне определившаяся и охотно выбирающая своим центром отживающего князя «старого века». Это - детство и наивность, конечно, но нет уже прежней безмятежности и доверчивости, хотя нет еще и тех вполне определившихся упреков и требований правительству, тех организованных протестующих сил, которые явятся позднее.
Люди с более развитым критическим умом, с деятельной мыслью видят настоятельную необходимость и неизбежность коренных общественных переустройств, - одни во имя справедливости, другие во имя духовных интересов того сословия, которое, по их мнению, является единственным носителем человеческого достоинства. «Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, - говорит князь Андрей Пьеру. - Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже.
В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как и был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я желал бы освободить крестьян… Так вот чего мне жалко - человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которых сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами».
Но ни эти желания, ни наивная «оппозиция», выбирающая своим центром старого князя Болконского, не вырастают до размеров требований и, конечно, далеки от какой-нибудь организованности. Неопределенное недовольство может быстро исчезнуть под влиянием общего несчастия и прежнее согласие чувств и действий может вновь проявиться с прежней силой, как только обстоятельства покажут его необходимость.
Кн. Х. А. Ливен.
В июне 1812 года наступает этот момент, начинается период последнего движения народов с запада на восток, которое по «закону необходимости» должно завершиться обратным движением с востока на запад. Неприятель, бывший то нашим врагом, то союзником, то победителем, наносившим нам поражения, которые мы праздновали, как победы, то бивший нас наравне с австрийцами, нашими союзниками, то бивший австрийцев при нашей помощи, наконец, вторгается в Россию. Как ни медленно идут известия, как ни недовольны направлением правительственной деятельности «оппозиционеры», но настроение общее по согласности напоминает то, что было в начале войн с Наполеоном. Князь Андрей, который заявлял, что после Аустерлица он ни за что не вступит в ряды армии, опять служит и опять военным. Пьер, который когда-то находил нелепою войну против «величайшего человека в мире», переживает целый ряд настроений, из которых постепенно вырастает уверенность в необходимости подвига для спасения России, убийства Наполеона. Это - наиболее думающие, наиболее склонные к «оппозиции» люди. Все остальное чувствует, не рассуждая, и сливается в едином стремлении, сходном с тем, которое переживал Николай в былые времена. Что Петя Ростов, шестнадцатилетний мальчуган, переживает минуты восторга при виде Александра I, в этом нет ничего удивительного; но в одних чувствах с ним сливается толпа молодых и старых чиновников и купцов, кучеров и неизвестных старух. Когда государь после службы в Успенском соборе, пройдя во дворец и пообедав, вышел на балкон, толпа, уже пережившая за этот день не мало волнений, вновь хлынула ко дворцу. «Ангел, батюшка! Ура! Отец!» кричали народ и с ним Петя, и опять бабы и некоторые мужики послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастья. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перила балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку с бисквитами и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как-будто боясь опоздать, опять закричал «ура!» уже охриплым голосом. Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться. «Вот я говорил, что еще подождать, так и вышло», с разных сторон радостно говорили в народе.
К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать. Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете. Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека. Растопчин чувствовал это, и это-то раздражало его. Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть. Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что-то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов. — Готов экипаж? — сказал Растопчин, отходя от окна. — Готов, ваше сиятельство, — сказал адъютант. Растопчин опять подошел к двери балкона. — Да чего они хотят? — спросил он у полицеймейстера. — Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить... — Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» — думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого-то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voilà la populace, la lie du peuple, — думал он, глядя на толпу, — la plèbe qu"ils ont soulevée par leur sottise. Il leur faut une victime», — пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева. — Готов экипаж? — в другой раз спросил он. — Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, — отвечал адъютант. — А! — вскрикнул Растопчин, как пораженный каким-то неожиданным воспоминанием. И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу. — Здравствуйте, ребята! — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! — И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью. По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз... он тебе всю дистанцию развяжет!» — говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии. Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно-быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то. — Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидел из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый сипим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека. — А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Поставьте его сюда! — Молодой человек, бренча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки. Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног. Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо. — Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким голосом, — этот человек, Верещагин — тот самый мерзавец, от которого погибла Москва. Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной топкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо. Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился, ногами на ступеньке. — Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, — говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу; — Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам! Народ молчал и только все теснее и теснее нажинал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних. — Бей его! Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин. — Руби! Я приказываю! — Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась. — Граф!.. — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один Бог над нами... — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать. — Руби его! Я приказываю!.. — прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин. — Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю. Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным. — Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове. «A!» — коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе. «О Господи!» — послышалось чье-то печальное восклицание. Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и проглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа. Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его... «Топором-то бей, что ли?.. задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живущ... по делам вору мука. Запором-то!.. Али жив?» Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад. «О Господи, народ-то что зверь, где же живому быть! — слышалось в толпе. — И малый-то молодой... должно, из купцов, то-то народ!.. сказывают, не тот... как же не тот... О Господи! Другого избили, говорят, чуть жив... Эх, народ... Кто греха не боится...» — говорили теперь те же люди, с болезненно-жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей. Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачивалась, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа. В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть. — Ваше сиятельство, сюда... как изволите?.. сюда пожалуйте, — проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, — думал он по-французски. — Ils sont comme les loups qu"on ne peut apaiser qu"avec de la chair». «Граф! один Бог над нами!» — вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. «J"avais d"autres devoirs, — подумал он. — Il fallait apaiser le peuple. Bien d"autres victimes ont péri et périssent pour le bien publique», — и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе — не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. «Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait été tout autrement tracé, но должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего». Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique, предполагаемое благо других людей. Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это. Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим à propos — наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу. «Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, — думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). — Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d"une pierre deux coups; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея». Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился. Через полчаса граф уехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные и колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам. Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что-то крича и размахивая руками. Один из них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к ним. Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам. — Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями и жестами. Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом. — Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня... Я воскресну... воскресну... воскресну. Растерзали мое тело. Царствие Божие разрушится... Трижды разрушу и трижды воздвигну его, — кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся. — Пош... пошел скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом. Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике. Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов: «Руби его, вы головой ответите мне!» — «Зачем я сказал эти слова! Как-то нечаянно сказал... Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе... «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plèbe, le traître... le bien publique»