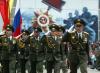Упражнение 269 (повторительное). Перепишите, ставя нужные знаки препинания.
I. 1. Намедни ночью бессонница моя меня томила и в голову пришли мне две-три мысли (П.). 2. Принес он смертную смолу да ветвь с увядшими листами (П.). 3. Все ее гнали и никто не замечал (Я.). 4. Еще одна минута объяснения и давнишняя вражда готова была погаснуть (Г.). 5. Плохо ли вам было у Плюшкина или просто по своей охоте гуляете по лесам да дерете прохожих? (Г.). 6. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу (Г.). 7. У судьи губы находились под самым носом и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу сколько душе угодно было (Г.). 8. Из окошка далеко блестят горы и виден Днепр (Г.). 9. Во сне ль все это снится мне или гляжу я в самом деле на что при этой же луне с тобой живые мы глядели? (Тютч.). 10. У Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку (Акс.). 11. Вдали поле с рожью точно горит огнем да речка блестит и сверкает на солнце (Гонч.). 12. Но вот опять хлынули играющие лучи и весело и величаво поднимается могучее светило (Л.). 13. Берег обрывом спускался морю почти у самых стен лачужки и внизу с беспрерывным рокотом плескались темно-синие волны (Л). 14. Он на вопрос не отвечал и с каждым днем приметай вял и близок стал его конец(Л.). 15. В такие дни жар бывает иногда весьма силен иногда даже парит по скатам полей но ветер разгоняет раздвигает накопившийся зной и вихри-круговороты несомненный признак постоянной погоды высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню (Т.). 16. Лишь изредка в близкой роще с внезапной звучностью плеснет бойкая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит едва колеблемый набежавшей волной (Т.). 17. Бесчисленные золотые звезды казалось тихо текли все наперерыв мерцая по направлению Млечного Пути и право глядя на них вы как будто смутно чувствовали сами стремительный безостановочный бег земли (Т.). 18. Звезды уже начинали бледнеть и небо серело когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском (Т.). 19. Ты всегда был строг ко мне и ты был справедлив (Т.). 20. Выспится Саша поднимется рано черные косы завяжет у стана и убежит и в просторе полей сладко и вольно так дышится ей (Я.).
II. 1. Мужская комнатная прислуга была доведена у нас до минимума а именно для всего дома полагалось достаточным не больше двух лакеев (С.-Щ.). 2. Я ему верю да суд-то ему на слово не верит (Дост.). 3. Кругом по песку валялись безо всякого порядка обручи и торчали порожние бочки (Григ.). 4. И действительно как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий красивый звук винтовочного выстрела и пулька весело посвистывая пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево (Л. Т.). 5. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили и это-то не понравилось Анне Павловне (Л. Т.). 6. Все лица нахмурились и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливание Кутузова (Л. Т.). 7. С утра был туман но к завтраку погода разгулялась и солнце блестело и на только что распустившейся листве и на молодой девственной траве и на всходах хлебов и на ряби быстрой реки видневшейся налево от пороги (Л. Т.). 8. Прощание с приятелями растрогало Оленина и ему стала вспоминаться вся последняя зима проведенная в Москве и образы этого прошедшего перебиваемые неясными мыслями и упреками стали непрошено возникать в его воображении (Л. Т.). 9. Ученье и обед делали дни очень интересными вечера же проходили скучновато (Ч.). 10. Вот откуда-то доносится отрывистый тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук (Ч.). 11. Она мне нравилась все больше и больше я тоже по-видимому был симпатичен ей (У.). 12. Вавила бросил что-то в костер притоптал и тотчас же стало очень темно (Ч.). 13. Слышался ли в открытые окна трезвон городских и монастырских колоколов кричал ли во дворе павлин или кашлял кто-нибудь в передней всем невольно приходило на ум, что Михаил Ильич серьезно болен (Ч.). 14. В селе не переводилась лихорадка и была топкая грязь (Ч.). 15. Когда Аню провожали домой то уже светало и кухарки шли на рынок (Ч.). 16. Я видел только верхушку лозняка да извилистый край противоположного берега (У.). 17. Дикие и даже страшные в своем величии горы выступали резко из тумана да вдали тянулась едва заметная белая струйка дыма (Кор.). 18. Мгновение и все опять тонуло во мраке (Кор.). 19. На равнинах перерезанных кое-где оврагами лежали утопая в садах села и кое-где по горизонту давно запаханные и охваченные желтыми нивами рисовались высокие могилы (Кор.). 20. Треск разрываемой рубахи - и Гаврила лежал на песке безумно вытаращив глаза (М. Г.).
III. 1. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль (М. Г.). 2. Сквозь серый камень вода сочилась и было душно в ущелье темном и пахло гнилью (М. Г.). 3. В давно забытые времена быть может так же на кургане чернела конная фигура и носился орлиный клекот и рыскал степной зверь и смутно волновался седой ковыль и вольно над степным простором неслись победные гортанные крики (Сераф.). 4. Последние тени сливались да мгла синела да за курганом тускнело мертвое зарево (Сераф.). 5. Как будто кто-то задумчиво без слов пел и не было слышно голоса и только представлялась потонувшая в ночной синеве река и костер и смутный обрыв и в темной глубине чуть зыблемые звезды (Сераф.). 6. Сквозь грохот слышался иногда дикий вскрик да вместе с комьями рванувшейся земли взлетало тележное колесо и дымящаяся солдатская шинель (А. Н. Т.). 7. Решение Лих сняло с его сердца камень да и весь дом сразу ожил, точно от ниспосланного мира (Фед.). 8. По утрам кумысный домик привлекал людей со слабыми легкими и пятна солнца прорвавшиеся сквозь листву на столики освещали около недопитых стаканов, неподвижно лежащие длиннопалые руки (Фед.). 9. По крыше выложили жесть и дом готов и крыша есть (Маяк.). 10. В два пальца по-боцмански ветер свистит и тучи сколочены плотно. И ерзает руль и обшивка трещит и забраны в рифы полотна (Багр.). 11. Ровный мягкий свет струился по опавшей листве и яблони отсвеченные по краям стояли у окна странные и золотые (Фад.). 12. Иногда после слабенького отрывистого выстрела [в тире] слышался звон разбитой бутылки или начинал шуметь механизм движущейся мишени (Кат.). 13. Мы спустились с горы и въехали в село (Фурм.). 14. В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты и люди движутся ощупью вслепую рискуя в любой канаве свернуть голову (Н. О.). 15. Бело вспыхнула молния и ворон уронив горловой баритонистый клекот вдруг стремительно ринулся вниз (Шол.). 16. Конь глухо звякая подковами по устилавшим дно колышкам на ходу потянулся было пить но всадник заторопил его и конь екая селезенкой выскочил на пологий берег (Шол.). 17. То ли шелест колоса трепет ветерка то ли гладит волосы теплая рука (Сурк.). 18. Короткая команда пущенные на полный ход моторы стремительно с ближней дистанции торпедный залп и с одним немецким транспортом а через пятнадцать секунд со вторым было покончено (Сим.). 19. Ржавеют в арсеналах пушки зато сияют кивера (Сим.). 20. То тут то там легонько шелестел ручеек и вздыхал оседая оттаявший за день крупитчатый снег
Для справок.
I. Запятая ставится между частями сложного предложения, связанными союзами с о е д и н и
т е л ь н ы м и (и, да в значении «и»), п р о
т и в и н и т е л ь н ы м и (однако, же, зато, а то, а не то), р а з д е л и т е л ь н ы м и (или, либо, то... то, не то... не то), п р и с о е д и н и т е л ь н ы м и (да, да и, причем, притом), п о я с н и т е л ь н ы м и (то есть, а именно).
Если части сложносочиненного предложения значительно распространены или имеют внутри себя запятые, то между ними ставится точка с запятой (перед союзами и, да в значении «и» лишь в том случае, когда они соединяют два предложения, которые без них были бы разделены точкой), например: Шесть лет комиссия возилась около здания; но климат что ли мешал, или материал уж был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента (Г.); Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость (Ч.); На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду (Ч.).
II. Если во второй части сложносочиненного предложения содержится неожиданное присоединение или резкое противопоставление по отношению к первой части, то между ними вместо запятой ставится тире, например: Я спешу туда ж - а там уже весь город (П.); Один прыжок - и лев уже на спине буйвола (Купр.).
III. Запятая перед союзами и, да (в значении), или, либо в сложносочиненном предложении не ставится:
а) если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член,например: В такую бурю волк не рыщет и медведь не вылезает из берлоги;
б) если части сложносочиненного предложения имеют общее придаточное предложение, например: Когда началась гроза, игра прекратилась и дети бросились бежать домой;
в) между двумя назывными предложениями, например: Прогулка в лесу и катанье на лодках;
г) между двумя вопросительными предложениями, например: Который теперь час и сколько времени осталось до отхода поезда?
д)Запятая не ставится также между двумя безличными предложениями, имеющими синонимичные слова в составе сказуемых, например: Нужно переписать работу и надо объяснить допущенные в ней ошибки.
Запятая ставится между частями сложносочиненного предложения, имеющими общий второстепенный член или общее придаточное предложение, если эти части соединены повторяющимся союзом, например: По улицам двигались тяжелые грузовики, и мчались легковые машины, и торопливо шли пешеходы.
Стилистика
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Упражнение 360 . Укажите, правильно ли построены приводимые ниже предложения.
1. Докладчик пытался убедить своих слушателей в том, что будто бы выдвинутые им положения проверены на практике. 2. Человечество охвачено страстным стремлением к тому, чтобы война в силу своей чудовищности изжила бы самое себя. 3. Лошади казаков, которые были покрыты пеной, с трудом взбирались по горной тропе. 4. Ученик сказал, что я еще не подготовился к ответу. 5. Казалось, что опасность настолько близка, что избежать ее не удастся.6. Волчиха осторожно пробиралась по дороге, ведущей к хлеву и которая была ей уже знакома. 7. Мы посетили выставку, на которую нам посоветовали сходить и посвященную творчеству Горького. 8. На улице началось сильное движение, во время которого автомобилем был сбит старик, которого отправили в больницу. 9. На собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и нет ли возможности досрочно сдать зачеты. 10, Новая книга, казалось, что будет иметь большой успех.
Великие о стихах:
Поэзия — как живопись: иное произведение пленит тебя больше, если ты будешь рассматривать его вблизи, а иное — если отойдешь подальше.
Небольшие жеманные стихотворения раздражают нервы больше, нежели скрип немазаных колес.
Самое ценное в жизни и в стихах — то, что сорвалось.
Марина Цветаева
Среди всех искусств поэзия больше других подвергается искушению заменить свою собственную своеобразную красоту украденными блестками.
Гумбольдт В.
Стихи удаются, если созданы при душевной ясности.
Сочинение стихов ближе к богослужению, чем обычно полагают.
Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда... Как одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда.
А. А. Ахматова
Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо — отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия.
И. С. Тургенев
У многих людей сочинение стихов — это болезнь роста ума.
Г. Лихтенберг
Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас. Повествуя нам о женщине, которую он любит, он восхитительно пробуждает у нас в душе нашу любовь и нашу скорбь. Он кудесник. Понимая его, мы становимся поэтами, как он.
Там, где льются изящные стихи, не остается места суесловию.
Мурасаки Сикибу
Обращаюсь к русскому стихосложению. Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из-за чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудный и чудный, верный и лицемерный, и проч.
Александр Сергеевич Пушкин
- …Хороши ваши стихи, скажите сами?
– Чудовищны! – вдруг смело и откровенно произнес Иван.
– Не пишите больше! – попросил пришедший умоляюще.
– Обещаю и клянусь! – торжественно произнес Иван…
Михаил Афанасьевич Булгаков. "Мастер и Маргарита"
Мы все пишем стихи; поэты отличаются от остальных лишь тем, что пишут их словами.
Джон Фаулз. "Любовница французского лейтенанта"
Всякое стихотворение — это покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звёзды, из-за них и существует стихотворение.
Александр Александрович Блок
Поэты древности в отличие от современных редко создавали больше дюжины стихотворений в течение своей долгой жизни. Оно и понятно: все они были отменными магами и не любили растрачивать себя на пустяки. Поэтому за каждым поэтическим произведением тех времен непременно скрывается целая Вселенная, наполненная чудесами - нередко опасными для того, кто неосторожно разбудит задремавшие строки.
Макс Фрай. "Болтливый мертвец"
Одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов я приделал такой райский хвостик:…
Маяковский! Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают!
- Мои стихи не печка, не море и не чума!
Владимир Владимирович Маяковский
Стихи - это наша внутренняя музыка, облеченная в слова, пронизанная тонкими струнами смыслов и мечтаний, а посему - гоните критиков. Они - лишь жалкие прихлебалы поэзии. Что может сказать критик о глубинах вашей души? Не пускайте туда его пошлые ощупывающие ручки. Пусть стихи будут казаться ему нелепым мычанием, хаотическим нагромождением слов. Для нас - это песня свободы от нудного рассудка, славная песня, звучащая на белоснежных склонах нашей удивительной души.
Борис Кригер. "Тысяча жизней"
Стихи - это трепет сердца, волнение души и слёзы. А слёзы есть не что иное, как чистая поэзия, отвергнувшая слово.
Вот вы все теперь, начал князь, смотрите на меня с таким любопытством, что, не удовлетвори я его, вы на меня, пожалуй, и рассердитесь. Нет, я шучу, прибавил он поскорее с улыбкой. Там... там были всё дети, и я всё время был там с детьми, с одними детьми. Это были дети той деревни, вся ватага, которая в школе училась. Я не то чтоб учил их; о нет, там для этого был школьный учитель, Жюль Тибо; я, пожалуй, и учил их, но я больше так был с ними, и все мои четыре года так и прошли. Мне ничего другого не надобно было. Я им всё говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети наконец без меня обойтись не могли и всё вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне наконец первым врагом. У меня много стало там врагов, и всё из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребенку можно всё говорить, всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю... а Тибо просто мне завидовал; он сначала всё качал головой и дивился, как это дети у меня всё понимают, а у него почти ничего, а потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они еще нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми! Через детей душа лечится... Там был один больной в заведении Шнейдера, один очень несчастный человек. Это было такое ужасное несчастие, что подобное вряд ли и может быть. Он был отдан на излечение от помешательства; по-моему, он был не помешанный, он только ужасно страдал, вот и вся его болезнь была. И если бы вы знали, чем стали под конец для него наши дети... Но я вам про этого больного потом лучше расскажу; я расскажу теперь, как это всё началось. Дети сначала меня не полюбили. Я был такой большой, я всегда такой мешковатый; я знаю, что я и собой дурен... наконец, и то, что я был иностранец. Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари. А я всего один раз поцеловал ее... Нет, не смейтесь, поспешил остановить князь усмешку своих слушательниц, тут вовсе не было любви. Если бы вы знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим стало ее очень жаль, как и мне. Она была из нашей деревни. Мать ее была старая старуха, и у ней, в их маленьком, совсем ветхом домишке, в два окна, было отгорожено одно окно, по дозволению деревенского начальства; из этого окна ей позволяли торговать снурками, нитками, табаком, мылом, всё на самые мелкие гроши, тем она и пропитывалась. Она была больная, и у ней всё ноги пухли, так что всё сидела на месте. Мари была ее дочь, лет двадцати, слабая и худенькая; у ней давно начиналась чахотка, но она всё ходила по домам в тяжелую работу наниматься поденно полы мыла, белье, дворы обметала, скот убирала. Один проезжий французский комми соблазнил ее и увез, а через неделю на дороге бросил одну и тихонько уехал Она пришла домой, побираясь, вся испачканная, вся в лохмотьях, с ободранными башмаками, шла она пешком всю неделю, ночевала в поле и очень простудилась; ноги были в ранах, руки опухли и растрескались. Она, впрочем, и прежде была собой не хороша; глаза только были тихие, добрые, невинные. Молчалива была ужасно. Раз, прежде еще, она за работой вдруг запела, и я помню, что все удивились и стали смеяться: «Мари запела! Как? Мари запела!» и она ужасно законфузилась и уж навек потом замолчала. Тогда еще ее ласкали, но когда она воротилась больная и истерзанная, никакого-то к ней сострадания не было ни в ком! Какие они на это жестокие! Какие у них тяжелые на это понятия! Мать, первая, приняла ее со злобой и с презреньем: «Ты меня теперь обесчестила» Она первая ее и выдала на позор: когда в деревне услышали, что Мари воротилась; то все побежали смотреть Мари, и чуть не вся деревня сбежалась в избу к старухе: старики, дети, женщины, девушки, все, такою торопливою, жадною толпой. Мари лежала на полу, у ног старухи, голодная, оборванная, и плакала. Когда все набежали, она закрылась своими разбившимися волосами и так и приникла ничком к полу. Все кругом смотрели на нее как на гадину; старики осуждали и бранили, молодые даже смеялись, женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презреньем таким, как на паука какого. Мать всё это позволила, сама тут сидела, кивала головой и одобряла. Мать в то время уж очень больна была и почти умирала; чрез два месяца она и в самом деле померла; она знала, что она умирает, но все-таки с дочерью помириться не подумала до самой смерти, даже не говорила с ней ни слова, гнала спать в сени, даже почти не кормила. Ей нужно было часто ставить свои больные ноги в теплую воду; Мари каждый день обмывала ей ноги и ходила за ней; она принимала все ее услуги молча и ни одного слова не сказала ей ласково. Мари всё переносила, и я потом, когда познакомился с нею, заметил, что она и сама всё это одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю тварь. Когда старуха слегла совсем, то за ней пришли ухаживать деревенские старухи, по очереди, так там устроено. Тогда Мари совсем уже перестали кормить; а в деревне все ее гнали и никто даже ей работы не хотел дать, как прежде. Все точно плевали на нее, а мужчины даже за женщину перестали ее считать, всё такие скверности ей говорили. Иногда, очень редко, когда пьяные напивались в воскресенье, для смеху бросали ей гроши, так, прямо на землю; Мари молча поднимала. Она уже тогда начала кашлять кровью. Наконец ее отрепья стали уж совсем лохмотьями, так что стыдно было показаться в деревне; ходила же она с самого возвращения босая. Вот тут-то, особенно дети, всею ватагой, их было человек сорок с лишком школьников, стали дразнить ее и даже грязью в нее кидали. Она попросилась к пастуху, чтобы пустил ее коров стеречь, но пастух прогнал. Тогда она сама, без позволения, стала со стадом уходить на целый день из дому. Так как она очень много пользы приносила пастуху и он заметил это, то уж и не прогонял ее и иногда даже ей остатки от своего обеда давал, сыру и хлеба. Он это за великую милость с своей стороны почитал. Когда же мать померла, то пастор в церкви не постыдился всенародно опозорить Мари. Мари стояла за гробом, как была, в своих лохмотьях, и плакала. Сошлось много народу смотреть, как она будет плакать и за гробом идти; тогда пастор, он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедником, обратился ко всем и указал на Мари. «Вот кто была причиной смерти этой почтенной женщины» (и неправда, потому что та уже два года была больна), «вот она стоит пред вами и не смеет взглянуть, потому что она отмечена перстом божиим; вот она босая и в лохмотьях, пример тем, которые теряют добродетель! Кто же она? Это дочь ее!», и всё в этом роде. И представьте, эта низость почти всем им понравилась, но... тут вышла особенная история; тут вступились дети, потому что в это время дети были все уже на моей стороне и стали любить Мари. Это вот как вышло. Мне захотелось что-нибудь сделать Мари; ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику: он по деревням ездил и старым платьем торговал. Он мне дал восемь франков, а она стоила верных сорок. Я долго старался встретить Мари одну; наконец мы встретились за деревней, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал восемь франков и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль и что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут же и утешить и уверить ее, что она не должна себя такою низкою считать пред всеми, но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она всё время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала, и я тотчас же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорей отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа; я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот же день все узнали, вся деревня; всё обрушилось опять на Мари: ее еще пуще стали не любить. Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить, говорил каждый день, когда только мог. Они иногда останавливались и слушали, хотя всё еще бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали разговаривать, я от них ничего не таил; я им всё рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться; там в обычае, встречая друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить: «Здравствуйте». Воображаю, как Мари удивлялась. Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить. Они стали часто приходить ко мне и всё просили, чтоб я им рассказывал; мне кажется, что я хорошо рассказывал, потому что они очень любили меня слушать. А впоследствии я и учился и читал всё только для того, чтоб им потом рассказать, и все три года потом я им рассказывал. Когда потом все меня обвиняли, Шнейдер тоже, зачем я с ними говорю как с большими и ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно, что они и без того всё знают, как ни таи от них, и узнают, пожалуй, скверно, а от меня не скверно узнают. Стоило только всякому вспомнить, как сам был ребенком. Они не согласны были... Я поцеловал Мари еще за две недели до того, как ее мать умерла; когда же пастор проповедь говорил, то все дети были уже на моей стороне. Я им тотчас же рассказал и растолковал поступок пастора; все на него рассердились, а некоторые до того, что ему камнями стекла в окнах разбили. Я их остановил, потому что уж это было дурно; но тотчас же в деревне все всё узнали, и вот тут и начали обвинять меня, что я испортил детей. Потом все узнали, что дети любят Мари, и ужасно перепугались; но Мари уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бегали потихоньку к ней в стадо, довольно далеко, почти в полверсте от деревни; они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтоб обнять ее, поцеловать, сказать: «Je vous aime, Marie!» и потом стремглав бежать назад . Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастия; ей это даже и не грезилось; она стыдилась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорю. Они ей рассказали, что это я им всё пересказал и что они теперь ее любят и жалеют, и всегда так будут. Потом забегали ко мне и с такими радостными, хлопотливыми личиками передавали, что они сейчас видели Мари и что Мари мне кланяется. По вечерам я ходил к водопаду; там было одно совсем закрытое со стороны деревни место, и кругом росли тополи; туда-то они ко мне по вечерам и сбегались, иные даже украдкой. Мне кажется, для них была ужасным наслаждением моя любовь к Мари, и вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца: им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Léon так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое-то платье; как это они ухитрились, не понимаю; всею ватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня. Я иногда ходил тоже потихоньку повидаться с Мари. Она уж становилась очень больна и едва ходила; наконец перестала совсем служить пастуху, но все-таки каждое утро уходила со стадом. Она садилась в стороне; там у одной, почти прямой, отвесной скалы был выступ; она садилась в самый угол, от всех закрытый, на камень и сидела почти без движения весь день, с самого утра до того часа, когда стадо уходило. Она уже была так слаба от чахотки, что всё больше сидела с закрытыми глазами, прислонив голову к скале, и дремала, тяжело дыша; лицо ее похудело, как у скелета, и пот проступал на лбу и на висках. Так я всегда заставал ее. Я приходил на минуту, и мне тоже не хотелось, чтобы меня видели. Как я только показывался, Мари тотчас же вздрагивала, открывала глаза и бросалась целовать мне руки. Я уже не отнимал, потому что для нее это было счастьем; она всё время, как я сидел, дрожала и плакала; правда, несколько раз она принималась было говорить, но ее трудно было и понять. Она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге. Иногда дети приходили со мной. В таком случае они обыкновенно становились неподалеку и начинали нас стеречь от чего-то и от кого-то, и это было для них необыкновенно приятно. Когда мы уходили, Мари опять оставалась одна, по-прежнему без движения, закрыв глаза и прислонясь головой к скале; она, может быть, о чем-нибудь грезила. Однажды поутру она уже не могла выйти к стаду и осталась у себя в пустом своем доме. Дети тотчас же узнали и почти все перебывали у ней в этот день навестить ее; она лежала в своей постели одна-одинехонька. Два дня ухаживали за ней одни дети, забегая по очереди, но потом, когда в деревне прослышали, что Мари уже в самом деле умирает, то к ней стали ходить из деревни старухи, сидеть и дежурить. В деревне, кажется, стали жалеть Мари, по крайней мере детей уже не останавливали и не бранили, как прежде. Мари всё время была в дремоте, сон у ней был беспокойный: она ужасно кашляла. Старухи отгоняли детей, но те подбегали под окно, иногда только на одну минуту, чтобы только сказать: «Bonjour, notre bonne Marie». А та, только завидит или заслышит их, вся оживлялась и тотчас же, не слушая старух, силилась приподняться на локоть, кивала им головой, благодарила. Они по-прежнему приносили ей гостинцев, но она почти ничего не ела. Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницею. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «Nous t"aimons, Marie». Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил; кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ее руку; как иссохла у ней рука! А тут вдруг наутро приходят и говорят мне, что Мари умерла. Тут детей и удержать нельзя было: они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову. Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на похоронах очень мало было, так только, из любопытства, зашли некоторые; но когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми: они убирают ее каждый год цветами, обсадили кругом розами. Но с этих похорон и началось на меня главное гонение всей деревни из-за детей. Главные зачинщики были пастор и школьный учитель. Детям решительно запретили даже встречаться со мной, а Шнейдер обязался даже смотреть за этим. Но мы все-таки виделись, издалека объяснялись знаками. Они присылали мне свои маленькие записочки. Впоследствии это всё уладилось, но тогда было очень хорошо: я даже еще ближе сошелся с детьми через это гонение. В последний год я даже почти помирился с Тибо и с пастором. А Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной «системе» с детьми. Какая у меня система! Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, это уж было пред самым моим отъездом, он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, и это я давно заметил, не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому что меня просто тянуло к детям. Когда я, еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил тосковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы, всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы (потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добегали), и я забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся судьба моя пошла на них. Я никогда и не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я всё буду там, но я увидал наконец, что Шнейдеру нельзя же было содержать меня, а тут подвернулось дело до того, кажется, важное, что Шнейдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может, моя участь совсем переменится, но это всё не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много. Всё исчезло. Я сидел в вагоне и думал: «Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь». Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным; больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются...». У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как их любил. Очень тяжело получить первое письмо! Как они тосковали, провожая меня! Еще за месяц начали провожать: «Léon s"en va. Léon s"en va pour toujours!». Мы каждый вечер сбирались по-прежнему у водопада и всё говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде; только, расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех, по одному, для того только, чтоб обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, всею гурьбой, провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в версте. Они удерживались, чтобы не плакать, но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал, только для того и останавливал всю толпу; а мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон и вагон тронулся, они все мне прокричали «ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел... Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица, и услышал ваши первые слова, то у меня, в первый раз с того времени, стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых: я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь, а я вас, только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим, и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мысль: я не из того сказал, что вами не дорожу, и не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил в них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо, из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь: «У ней лицо, как у доброй сестры». Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеете скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть; душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы невеселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похоже как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. Ну, вот и про ваше лицо; хорош я угадчик? Сами же вы меня за угадчика считаете. Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, обратился он вдруг к генеральше, про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то что вы в таких летах. Вы ведь на меня не сердитесь, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю? И не подумайте, что я с простоты так откровенно всё это говорил сейчас вам про ваши лица, о нет, совсем нет! Может быть, и я свою мысль имел.иллюстрация © Ninlysa
«Никто, наверное, не знает, каково это - быть одинокой, а я знаю. Я знаю это лучше всех. У меня нет ни друзей, ни родных – никого. Меня никто не замечает. Я никому не нужна, ведь я просто – Никто», - так думала Никто, свесив ноги с крыши высотного дома, и с любопытством заглядывая в окна домов напротив. Город оделся в неверные сумеречные цвета, в любимые оттенки потерянных душ – серые и синие. Среди преимущественно жёлтых квадратов света встречались и неожиданно бьющие красным. И вот эти пятна пульсирующего тепла манили Никто больше всего, заставляя её сердечко биться быстрее, словно был в этих алых квадратах ответ на Тот Самый Вопрос, терзавший её когда-то и забытый со временем.
Девушка лет шестнадцати, с голубыми, лучистыми глазами, аккуратным, слегка вздёрнутым носиком и небольшими коралловыми губками. В пушистых локонах длинных, ниже колен, волнистых серебристых волос то и дело запутывался лунный свет. Одеяние её – струящееся, мерцающее жемчужное платье, было словно соткано из звёзд, а кожа была такой белоснежной и прозрачной, что сквозь неё просвечивали даже тончайшие сосуды: светло-розовые артерии, нежно-голубые вены и сиреневые капилляры. Красоте девушки могли позавидовать ангелы великого мастера кисти Рафаэля. Но странно, несмотря на столь волшебный небесный облик, её никто не замечал. Никто. Может, поэтому у неё было такое странное имя. Другого она почему-то не помнила. Возможно и то, что когда-то у неё и было это другое, нормальное, имя, но она настолько привыкла к тому, что она Никто, что просто-напросто забыла его…
Одно время Никто, как и другие подростки, ходила в школу, где постигала мир из учебников. Она много раз пыталась заговорить с остальными учениками, но её никто не слышал. Учителя никогда не задавали ей никаких вопросов и не вызывали к доске для ответов. Часто, когда в школе оставался только один сторож, странная девочка тихо ходила из класса в класс, листала страницы книг в библиотеке, резвилась в спортзале, кидая в стену баскетбольные мячи, или сидела на подоконнике в кабинете биологии, наблюдая за шуршащими обитателями живого уголка…
Постепенно Никто поняла, что для всех она - невидимка. Она могла беспрепятственно жить в любой понравившейся квартире, поскольку своей у неё не было, или она забыла, где была Её квартира. А может быть дом? Может и дом… Уютные одноэтажные строения, с зелёными, или терракотовыми заборами, небольшими огородами, ей тоже нравились, но квартиры почему-то больше. Может быть из-за того, что в домах, чаще, чем в квартирах, мешали другие существа, невидимые для людей и энергетически похожие на неё? Маленькие, заросшие спутанными волосами, хозяева дома, вооружившись мётлами, гнали её со своей территории. Иногда Никто встречала таких, как она. Но с ними тоже трудно было общаться, потому что эти бесплотные создания, в основном, были погружены в свои мысли. Они проносились мимо, бормоча что-то себе под нос, растворяясь в предрассветном тумане. Забавно было общаться с кошками. Поначалу они шипели и выгибали дугой спину при виде неё, но затем с ними вполне можно было найти общий язык и даже поиграть. Правда, кошки порой докучали ей своим излишним вниманием, чем изрядно нервировали своих хозяев, начинавших настороженно оглядываться либо ругаться на размяукавшегося питомца. А вот собаки откровенно игнорировали её, изо всех сил делая вид, что не видят гостью. В чужом жилье она могла делать всё, что хотела – наряжаться в платья, жалея о том, что все зеркала разом сломались и не желают показывать её. Спать, сминая постель лишь самую малость. Читать книги, выдирая на память понравившиеся страницы. Купаться, забрызгивая пеной всю ванную комнату и разбрасывая полотенца по коридору. Играть с посудой, с наслаждением наблюдая над тем, как разлетается при ударе о стену хрупкий фарфор. Но очень скоро всё это надоедало. Хотелось большего – поговорить с кем-либо по душам, или просто прижаться к кому-то тёплому и родному, посидеть, обнявшись под мягким пледом, ощущая и вспоминая что-то давно забытое…
Она всё чаще задавалась вопросом: «К чему жить, если нет нормальной жизни?». Вот и в этот раз она думала об этом, глядя вниз на бесконечный поток людей и машин. Ещё немного понаблюдав за завораживающим мельканием огней и теней, Никто решила прогуляться внизу, по пути заглядывая в освещенные окна квартир и офисов, в надежде найти какое-нибудь развлечение.
Её внимание привлёк квадрат красного света – окна одной из квартир на девятом этаже обычного блочного дома. Ветер с наслаждением трепал алые полотнища, вырвавшиеся на свободу. Временами перед взором мелькала долька апельсина под потолком – абажур заливал комнату ровным жёлтым светом, усиливая цвет штор. Что-то в этом сочетании показалось Никто смутно знакомым. Она попыталась напрячь память, но не вышло. Ощущения оставались всего лишь ощущениями, не желая оформляться в нечто более существенное. Красные шторы будто притягивали её. В их движениях в воздушных потоках ей чудились приглашающие жесты огненных рук, сулящих тепло и заботу. Что-то кольнуло в груди. Никто удивленно замерла на полпути к алеющему квадрату света. Давно она не ощущала боли, пусть даже такой слабой. Она продвинулась ещё на пару метров вперёд, когда вдруг нестерпимо заныли запястья. Подняв руки к глазам, Никто изумлённо рассматривала их, стараясь определить причину беспокойства, вглядываясь в водянистые вены под прозрачной кожей. Ещё пара метров – и запястья ожгло огнём, в воздухе поплыл железный аромат крови. При каждом шаге вперёд Никто чувствовала, как сила понемногу уходит из неё – тонкими ручейками багряного цвета. Она закрывала глаза и видела, как по раскинутым рукам стекает кровь, забирая с собою жизнь. Но стоило открыть глаза, как наваждение пропадало. Платье оставалось всё таким же белоснежным, кожа – безупречной, без единой царапины. Вот только боль никуда не уходила, а запястья всё так же горели, словно к ним приложили раскалённый металл. Но Никто упрямо продолжала свой путь.
Последний рывок, и она буквально ввалилась в комнату, на мгновение, запутавшись в красных шторах, попытавшихся заключить её в объятия.
За столом, заваленным учебниками, сидела девушка лет шестнадцати и, всхлипывая, писала что-то на клочке бумаги. Длинные светлые волосы в беспорядке разметались по плечам. Белая рубашка, на два размера больше, вероятно, служила пижамой, поскольку накинута она была на голое тело.
- Простите… простите… - как заведённая повторяла девушка, складывая записку в конверт. Рядом с её правой рукой лежало лезвие. Никто прошил озноб. Она вдруг явственно ощутила на своей коже холод стали. Расширившимися от ужаса глазами она наблюдала за девушкой. А та металась по комнате, то подбегая к выходу из неё, то вновь возвращаясь к столу, в нерешительности замирая возле него.
- Нет… я не смогу без тебя… я не хочу без тебя, - и она схватила лезвие.
- Стой – подала слабый голос Никто. Но, конечно же, девушка её не услышала, а ринулась в ванну, пролетев сквозь Никто, как будто и не было её в комнате.
-Стой! Остановись! Пожалуйста! – после секундного замешательства Никто кинулась за ней. Вспышками алого света ей вспоминались и эти шторы, полощущиеся на ветру. Она выбирала их вместе с отцом. И абажур в форме дольки апельсина – его купила мама, когда Никто была ещё совсем крошкой. Очередная вспышка. Первая сказка, прочитанная в его свете. Эта ванна с бирюзовым кафелем. Жгучая боль распространилась по всему телу, расползаясь от запястий во все стороны. Здесь… на этом самом месте… она лежала здесь… в тёмно-розовой воде, а по пальцам на пол стекали капельки крови, собираясь в тягучие багряные лужицы…
Девушка медленно, трясущимися руками расстегивала рубашку. Лезвие она положила на край ванны. Никто словно очнулась от долгого сна. Она кричала, не останавливаясь. Топала ногами, просила остановиться. Но бесполезно. Её не было в мире живых. Она сама покинула его. И даже не помнила, зачем это сделала. Сейчас это уже было неважно. Спасти! Ей срочно надо было спасти эту сумасшедшую идиотку, которая лишится всего из-за какой-то глупости.
Никто схватила с полки первый попавшийся бутылёк с туалетной водой и зашвырнула им в зеркало. Оно тут же пошло сетью морщин, а девушка вздрогнула и испуганно заозиралась.
- Кто здесь? – пролепетала она, стискивая на груди полурасстёгнутую рубашку. Никто истерически рассмеялась, направляя новый снаряд – увесистый флакон с шампунем – в воду. Фонтан брызг взметнулся почти до потолка. А Никто уже скидывала в ванну всё, что попадалось ей под руку. Зубные щётки, пачки с мылом, бутыли с морской солью и флаконы всевозможных размеров, оттенков и содержания. Девушка визжала, не в силах сдвинуться с места от страха, завладевшего ею.
- Беги же! Беги! Ну же! – веселилась Никто, устраивая в ванной настоящий бардак. Словно вняв её словам, девушка, наконец, сорвалась и выбежала, хлопнув дверью. Никто слышала, как непослушные пальцы пытаются закрыть щеколду, как в прихожей отмыкаются все замки, и на лестничной клетке затихает удаляющийся крик.
Устало прислонившись к стене, Никто тихо сползла по ней. Прикрыв глаза, она удовлетворённо осматривала «поле битвы», радуясь тому, что хотя бы сегодня её способности спасли кому-то жизнь. Она вглядывалась в ворсинки на зелёном полотенце и даже не замечала, как её собственное тело постепенно тает, исчезая. Так спокойно и хорошо ей не было давно. Растворяясь, Никто вспоминала и свои похороны, и резко постаревших родителей. Перед глазами пронеслась картина, как они съезжают с этой квартиры, потому что маме каждую ночь снится её дочь и просит простить. Никто пыталась их найти, но не могла. Постепенно она забыла и дорогу к этому месту, к своему дому. И причину, по которой обрекла себя на своё существование, а родителей – на страдание.
Ей снова чудилось, что она маленькая девочка. Мама держит её за руку и читает «Волшебник изумрудного города». Засыпая, Никто видит себя Элли в окружении добрых друзей, шагающих по дороге из жёлтого кирпича. Мама ласково гладит её по светлым волосам, шепча имя, её имя. А в квартире с красными шторами уже больше никого нет. И только на лестнице, через приоткрытую дверь холла, слышится сбивчивая речь девушки, которая просит соседей позвонить её родителям.