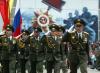Один мой знакомый парнишка — он, между прочим, поэт — побывал в этом году за границей.
Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба.
Очень много чего любопытного видел.
Ну, конечно, говорит, — громадный кризис, безработица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что.
Между прочим, он ужинал с одной герцогиней.
Он сидел со своим знакомым в ресторане. Знакомый ему говорит:
— Хочешь, сейчас я для смеха позову одну герцогиню. Настоящую герцогиню, у которой пять домов, небоскреб, виноградники и так далее.
Ну, конечно, наворачивает.
И, значит, звонит по телефону. И вскоре приходит такая красоточка лет двадцати. Чудно одетая. Манеры. Небрежное выражение. Три носовых платочка. Туфельки на босу ногу.
Заказывает она себе шнельклопс и в разговоре говорит:
— Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала.
Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отвечает, дескать, помилуйте, у вас а ла мезон столько домов, врете, дескать, наворачиваете, прибедняетесь, тень наводите. Она говорит:
— Знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов мне квартплату не вносят. У населения денег нет.
Этот небольшой фактик я рассказал так вообще. Для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто.
Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно, говорит, в Германии, несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность.
Улицы, они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас.
Кошек своих хозяйки на шнурочках выводят прогуливать. Черт знает что такое.
Все, конечно, ослепительно чисто. Плюнуть некуда.
Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, неоскорбительно для человеческого достоинства туда заходить.
Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул — верно ли есть отличие, — как у них и у нас.
Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота, голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе.
«Что, — думает, — за черт. Наша страна, ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, — думает, — вернусь в Москву — буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, — думает, — пробью эту косность. Вот, вернусь и поэму напишу — мол, грязи много, товарищи, — не годится… Тем более, у нас сейчас кампания за чистоту — исполню социальный заказ».
Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Чего-то там такое:
Даже сюда у них зайти очень мило —
Фиалки на полках цветут.
Да разве ж у нас прошел Аттила,
Что такая грязь там и тут.
А после, напевая последний немецкий фокстротик «Ауфвидерзейн, мадам», хочет уйти на улицу.
Он хочет открыть дверь, но видит — дверь не открывается. Он подергал ручку — нет. Приналег плечом — нет, не открывается.
В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню.
После хлопнул себя по лбу.
«Я, дурак, — думает, — позабыл, где нахожуся — в капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг, небось, пфенниг плати. Небось, — думает, — надо им опустить монетку — тогда дверь сама откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, — думает, — у меня в кармане мелочь есть. Хорош был бы я гусь без этой мелочи».
Вынимает он из кармана монеты. «Откуплюсь, — думает, — от капиталистических щук. Суну им в горло монету или две».
Но видит — не тут-то было. Видит — никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пихать и сколько пихать — неизвестно.
Тут наш знакомый прямо даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь.
Слышит — собирается народ. Подходят немцы. Лопочут на своем диалекте.
Поэт говорит:
— Отпустите на волю, сделайте милость.
Немцы чего-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации. Поэт говорит:
— Геноссе, геноссе, дер тюр, сволочь, никак не открывается. Компренешен. Будьте любезны, отпустите на волю. Два часа сижу.
Немцы говорят:
— Шпрехен зи дейч?
Тут поэт прямо взмолился:
— Дер тюр, — говорит, — дер тюр отворите. А ну вас к лешему!
— Вы, — говорит, — чего там? Дверь, что ли, не можете открыть?
— Ну да, — говорит. — Второй час бьюсь.
— У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, — говорит, — наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей.
Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот.
Русский говорит:
— Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством…
Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу.
У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил восвояси.
Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился.
«Ага, — думает, — стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтоб поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили».
На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Ауфвидерзейн, мадам», пошел в гости, как ни в чем не бывало.
Вика пробыла выходные у знакомых на даче, и к вечеру собралась домой в Москву. Оставив провожающих у калитки, она побежала на антресоли за сумкой, которую легкомысленно оставила там после праздничного застолья. В ней находились документы, деньги, ключи, косметика и ещё многое, на все случаи жизни. За ней издали затрусил деликатный беспородный пёс Тузик. Он всюду сопровождал её и подолгу ждал у очередной двери, будто нёс за неё личную ответственность. Поднимаясь по винтовой лестнице, Вика обнаружила, что за ней, теряя равновесие и цепляясь за ступени руками, резво поднимается Славик, изрядно выпивший хозяин дачи. Не помня себя от страха, Вика добежала до заветной сумки, схватила её и помчалась назад, но было уже поздно!
– Нет! Нет! Не уходи! – закричал, дрожащий от возбуждёния, Славик, закрывая собою дверь. – Побудь ещё хоть немного! Я скоро отойду и провожу тебя до станции. Может – быть, я обидел тебя? Или что-нибудь сделал не так? Послушай пока Высоцкого, а? Умоляю! Останься! Хочешь, стану на колени? Он грузно шлёпнулся на колени, и раскачиваясь из стороны в сторону, громко зарыдал. Его алая рубашка, как зловещий цвет светофора, маячил перед глазами, словно предупреждая о смертельной опасности! От потрясения у Вики подкашивались ноги. Она присела на подвернувшийся стул, осознавая жуткую ситуацию, в которую попала по своей неосмотрительности!
– Никому я давно не нужен, ни матери, ни отцу, – продолжал рыдать Славик, размазывая по лицу слёзы. – Это вовсе не родной мой отец. Отчим! Мать, когда трезвая, в лицо ему повторяет, что ненавидит, а любит моего отца, который сама бросила и он давно женат на другой. Ругаются. Дерутся.Речь его теряет эмоциональность, глохнет. Лицо гаснет, выявляя множество морщин, и становится похожим на кору старого дерева. Теперь в ногах Вики, вместо моложавого галантного франта, валяется трясущийся старик, с дребезжащим голосом и бесстыдно выглядывающей лысиной:
– Вот и пьют. Мать упъётся, и всё забывает. Бедный я, несчастный должен погибать вместе с ними, и нет мне спасения! Дальше Вика не слышала его слов. Мозг, независимо от её усилий, напряженно анализировал ситуации и, как профессиональный шахматист, проcчитывал ходы и искал единственный выход:
– Нет безвыходного положения, пока жив человек – повторяла ей мать. – Пока жив? Да, конечно! Для покойной мамы уже не существует понятия ВРЕМЯ! Оно навсегда остановилось. Часы начали обратный отсчёт! Но моё ВРЕМЯ имеет быть! На весах бытия каждого человека существуют равновеликие – ЖИЗНЬ и ВРЕМЯ! Время – это бесценное приданное каждого. Время жизни можно увеличить, обогатить и обессмертить – образованием, творчеством, наукой. Либо осквернить, обесчестить, пропить как люди «дна»! Сердце билось ровно. Дышалось легко и спокойно, будто открылось некое второе дыханье, как в беге на длинной дистанции!
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Не беда, что не рисую,
В жизни яростной – пляшу
Балериной на канате,
Да всю ночь СТИХИ ПИШУ!
Что мне страсти лихолетья,
Коль страданья не ношу
Торбой писаной, сияньем,
А всю ночь СТИХИ ПИШУ!
Ни в религию! Ни в омут! ,
Ни в постели! Ни в висок!
Путеводными столбами – ПРАВДА
ВЫСТРАДАННЫХ СТРОК!
И, мужая, выживаю
Всем завистникам – назло,
Хоть мишенью вызываю
Выстрел в спину и в лицо!
Вновь стихами изойдуся,
Крик души пока не стих,
Ярость в жилах разольётся,
Просочится в КАЖДЫЙ СТИХ!
Вспыхнет маком и гвоздикой,
Пульсом бьётся рифма строк,
и ДЫХАНИЕ ВТОРОЕ – вновь
ОТКРОЕТСЯ мне вновь!
Круг общения Вики давно ограничивался исключительно творческой интеллигенцией. Она впервые попала в чужой незнакомый мир «дна» семейства алкоголиков и, по размышлению, пришла к выводу:
– Там человек является ничтожеством, плывущим по мутному течению жизни. Он дичает и, не прикладывает ни малейших усилий, чтобы осознать и остановить процесс распада, увлекает в пучину гибели своё окружение, и так кругами – как от брошенного в воду камня, получая дьявольское наслаждение!
Тем временем Славик, довольный результатом разыгранного спектакля, весело засуетился, разыскивая плёнку с записью Высоцкого. Он энергично, что-то мурлыча под нос, рылся в ящике допотопного комода, выбрасывая на пол спутанные магнитофонные ленты, пока не нашёл нужную. Потом, зигзагами, как муравей, перебежал комнату, вытащил разношерстные обрывки бумаг, гордо разложил их на столе перед Викой и попросил с достоинством:
– Смотри пока. Сам рисовал, а я быстренько перемотаю ленту.
Равнодушно перелистав беспомощные копии цветными карандашами из старых «Огоньков», Вика решительно поднялась и попрощалась:
– Благодарю покорно за внимание и угощения. Прошу прощения за хлопоты и беспокойство. Уезжаю! Поздно! Доберусь до станции сама. Всего доброго. Не смею больше задерживаться. Прощайте! Не поминайте лихом! – стараясь не выдавать животного страха, негромко приветливо произнесла Виктория и решительно поднялась.
– А Высоцкий?
– Послушайте сами. Непременно. Настоятельно рекомендую!
Уверенно надев через плечо злосчастную сумку, Вика сбежала вниз, усилием воли преодолевая оцепенение, и оказалась в темноте перед запертой дверью! Заглянула на кухню. Никого. Окно зарешечено! Рядом, за дверью скульптора, работал телевизор, и слышались голоса. Вика несколько раз громко постучала. Никто не ответил. Дёрнула дверь – она была заперта! Взлетев по лестнице, и пробежав мимо Славика, Вика вылетела на зыбкий балкон. Вокруг – ни души! На горизонте зловеще полыхало заходящее солнце…
– Да ты что? – залепетал, задыхаясь Славик. Родители собирались тебя провожать, но, видно, не дождались, подумали что ты незаметно ушла, а мать по инерции заперла дверь! Это точно! Ты что? Боишься что ли? Я в жизни ещё никого не обидел. Садись. Отдыхай пока. Полистай мои рисунки. Посоветуй, как рисовать. Может быть, и я стану художником, хоть и поздно, как Ван Гог.Он опять закопошился с лентами у магнитофона. Под балконом кто – то запрыгал. Перегнувшись через хлипкие перила, Вика разглядела, прыгающую через веревочку, знакомую девочку из семейства грибников.
– Девочка, позови, пожалуйста, скорей хозяйку, попроси, чтобы открыла дверь, а то я опоздаю на последнюю электричку!
– Она давно ушла на свою квартиру, – пропищала девочка, не переставая прыгать. – Если мама разрешит, схожу! Из окна тотчас высунулась голова матери, сельской учительницы, с которой Вика ещё недавно долго разговаривала и читала свои детские стихи. Она как отрезала:
– Таня, домой! Не смей никуда ходить! Сейчас будем кушать!
Стало тихо. За спиной Вики раздался довольный голос:
– Мать отоспится и придёт теперь только утром. Раньше её не поднимешь. Это точно! Не бойся ты! Я тебя не трону. Садись. Поедим, что осталось. А кое- что у меня припасено специально для тебя, – с этими словами, он умело открыл и бережно поставил на стол большую бутылку портвейна. – Наверное, будет дождь. Душно. Если хочешь, расстегни лифчик. Я смотреть не буду. Это точно. Раз водку не пьёшь, вот тебе дамское вино, – виновато бормотал он. Поставив на стол жалкие остатки закуски и две рюмки, он присел на краешек ветхого стула. Вика молча наблюдала.
– Бери, ешь, что бог послал. Не стесняйся.
Вика не ответила, лишь пересела подальше. Славик больше не обращал на неё внимания, и весь дрожал от нетерпения. Больше он будто не замечал Вику. Он осторожно наливал дрожащей рукой себе вино и, медленно, полузакрыв глаза, с наслаждением пил, не закусывая. Лицо его просветлело, глаза засветились радостью, он пребывал в состоянии полного блаженства. Счастливый и просветлённый, обернулся с улыбкой к Вике и торжественно произнёс: «Вообще то я не женат! Делаю тебе официальное предложение. Это точно! Выходи за меня замуж. Не пожалеешь. Пойдём завтра же в загс. А? Родишь мне сына. Мне нужен наследник. Оставлю ему дачу. Кое – что и на сберкнижке есть. Это точно! Соглашайся!»
– Об этом не может быть речи,- строго парировала Вика.- Послушаем Высоцкого, – и с отвращением подумала:
– Видимо, именно это говорят в аналогичных случаях! Это спившееся существо, давно дошедшее до уровня одноклеточной амёбы, стремлению к сексуальному насилию надо мной придаёт некий антураж!
– Извини меня, пожалуйста! Я брошу пить – неожиданно твёрдо и убедительно продолжил Славик. – Честное слово. Клянусь! Сегодня пью в последний раз, как участковому недавно обещал. Он дал мне последний срок – три дня, чтобы устроился на работу. На старую не хожу несколько месяцев. Если уволят по статье за пьянство, нигде меня не возьмут. Пойдём завтра, пожалуйста, вместе? Скажете им всё это. Вам поверят и отдают Трудовую чистой. А на новом месте я всё начну сначала! Умоляю! Сжальтесь! Хотите, стану на колени? – он тут же рухнул на колени и пополз к Вике.
– Не нужно устраивать комедий и истерик! – жёстко остановила его Вика, отодвигаясь дальше. – Дайте телефон работы. Я позвоню, когда вернусь, из дома и поговорю с руководством. Утром я должна быть на работе. Проспитесь, и на ясную голову будете решать проблему с работой. Посоветуйтесь с родителями. Покорно дослушав Вику, с несчастным выражением на лице, он благополучно водрузился на стул и тут же налил себе вина. По его старообразному медленно лицу катились слёзы. Он старел на глазах. Трудно было понять, сколько ему лет – 50? 60? 70?
– Никому я теперь не нужен и жизнь у меня пропащая. Была машина. Увели. Была жена. Бросила. – и как бы отвечая Вике, глядя ей в глаза, дальше пожаловался: – Юбилей у меня. 40 стукнуло. Это точно!
Говоря, он допивал вино и всё больше и больше пьянел. Потом трясущейся рукой он безуспешно пытался убрать со стола опустевшую бутылку. Смахнул тарелки с закуской на пол. Осколки и еда разлетелись вокруг. Руки, как у слепого, продолжали шарить над столом.
– Кажется, у меня есть ребёнок. Точно не помню, сын или дочь, и как звать. Эта девка всё ходила с ребёнком ко мне на работу. Хотела выбить алименты, да ничего не вышло. Ещё бы не хотеть! Я получал в те времена как министр! Пей, гуляй, сколько хочешь! Хватало! И сейчас хватает! Знаешь, сколько у меня летом дачников? А зимой сдаю цыганам и художникам. Выходи за меня замуж! Не пожалеешь! Одену как королеву в меха и бриллианты! Куплю к свадьбе тебе белую машину. Повезёт нас к алтарю тройка с бубенцами. Будут петь, и плясать цыгане. Говорил он с трудом, еле выталкивая из себя слова. Язык заплетался. Закрывались глаза. Он валился со стула и жилистыми руками, как паук, тянулся, чтобы ухватиться за край стола и с трудом опять забормотал:
– Сварщик я. Высший разряд. Ты не бойся. Дачу я переписал на отца, а сам прописался у матери в коммуналке. Теперь она получит двухкомнатную квартиру. С женой я не расписывался. Приезжая она. Никому ничего не докажет, и ничего не получит. Она работает по лимиту в больнице. Маленькая, худющая. Кость да кожа. Не то что ты – художник, журналист, королева! А она горшки выносит. Моет судна. Тьфу! Противно! От неё дохлый ребёнок мне не нужен. С временной пропиской она будет хрячить там 10 лет. Собирается поступить в медицинский на хирурга. Смех просто. Сопливая девчонка. 17 ей. Польстилась на прописку. Таких желающих много. Могу выбрать.Но эта зараза обязательно поступит. Настырная она. Это точно! Наконец, он ухватился за угол стола, оттолкнулся, зигзагами по диагонали, падая вперёд, добежал до магнитофона и врубил его на полную мощность. Затем стянул с себя брюки и рубашку, обнажая хилое жёлтое тело, повалился на постель и захрапел. Комнату заполнил, перекрывая богатырский храп, надрывный голос Высоцкого, который заполнил всё пространство, бился о стены и вытек в сад, вытесняя остальные звуки.
– / Рвусь из сил – из всех сухожилий…/
– /Обложили меня, обложили…/
– /Хоть дожить – не успеть/ То хотя бы допеть…/
Напряжение спало, по телу разлился покой, стало легко дышать и думать
– Высоцкий появился в нужное время, и в нужном месте, – рассуждала Вика. – Он явился голосом, знамением поколения, его рупором. Был нужен народный заступник, и он появился. В голове явственно возникли строки стиха к Высоцкому, написанного в годовщину его смерти, после встречи с бардами в мастерской художника Доброва в Столешниковом, где бывал Леонид Губанов и другие гонимые поэты. Виктория мысленно вступила с Высоцким в диалог:
ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ
Владимир Высоцкий, цикорием славы усыпан,
Под тяжестью трупов – цветов, источающих запах рыданий,
И склеп почитаний и славы ему неуютен и тесен,
И душит петлёю морскою слюнявая мода признаний.
Хрипит, надрываясь, с пластинки заезженной каждого,
Безусого мальца, одетого в стиле модерна,
И в чёрных рубахах, гитарами перепоясаны,
Салонные барды поганками зреют на дёрне!
То барды из тех, что несут свою сущность из баров,
Пресыщенной плотью в заморских одёжках колышат,
И матово тренькают – сладко и складно. С пробором
головкой трясут и собою, как воздухом, дышат!
О чём же поётся детьми инкубатора нервного времени,
Влачащих, цветами бумажными, песни к застолью?
И жизнь коротая, за муторной склянкой портвейна,
Не любят! Не сеют! Детей не рожают, тем более!
– Где, брат мой, твоя нетерпимость к искусному ханжеству,
Где правдою жизни ни веет, ни каплет, ни дышится?
Восстанешь ли ливнем, грозою, сермяжною правдою,
Когда эта патока трелей постылых послышится?
Рассыпь всё Загробье, с высот вознесённый Высоцкий!
Ты весь был, как факел, что светит в ночи жизни,
И в песнях твоих, что берём мы с собою в дорогу,
Натянутым нервом, звенящем струною, ЖИВ ТЫ!
Разговор с Высоцким окончился. Звук оборвался на полуслове, как его жизнь! Вика тихо поднялась и на цыпочках, в невыносимой знобящей тишине, неслышно прошла помещение, спустилась в общую прихожую, осторожно нащупывая ступени скрипучей лестницы, и распахнула дверь кухни. Что – то блеснуло и погасло на стене. Ключ! Это ведь ключ! Ещё секунда и он в руке! Теперь нужно попасть в замок… Время тянется невыносимо томительно, как в замедленном кинокадре. Но вот ключ в замке! В эту минуту над головой Вики раздаётся пронзительный крик: СТО – О – О – ОЙ! НЕ УЙДЁ – Ё – Ё – ЁШЬ…
Проснувшись от резко наступившей тишины, Славик босиком, лишь в полосатых трусах, буквально скатывается по ступеням и, теряя равновесие, хватается за вырез сарафана со спины. Ключ в это время легко поворачивается, и дверь распахивается настежь! Вместе с вечерней прохладой, со двора хлынуло множество звуков, которые источала дача: детские голоса, звуки радио и телевизоров, где – спорили, лаяли собаки, пели под гитару, играла гармонь! В этом шуме безнадёжно затерялся отчаянный женский крик:
– А – А – А – А… ПОМОГИ – И – И – И – ИТЕ – Е – Е – Е…
Это Славик, падая за порог всей тяжестью потного, скользкого тела, ухватил Вику за распустившиеся длинные волосы! Наматывая на руку пряди волос, он повис на них, потеряв точку опоры, и тяжело дыша в затылок тошнотворным перегаром, хрипло заорал:
– Хочешь уйти чистенькой? Не выйдет! Я много таких ловил на замужество и трахал неделями, сколько хотел, пока хватало сил! Десятки! Детей наплодил, наверное, видимо – невидимо! Это точно! Особенно люблю интеллигентных. Они чистые и хорошо пахнут, и никому потом не жалуются! Берегут репутацию! Мне полный кайф!
ДАЧНИКИ ПОЧУЯЛИ НЕЛАДНЕОЕ С ГОСТЬЕЙ,
И С ЛЮБОПЫТСТВОМ ПРИЛЬНУЛИ К ОКНАМ!
Другой, трясущейся рукой, он потянулся к её сумке:
– Посмотрим что у тебя там. Может быть, украла что – нибудь? А то после каждой пропадают деньги и вещи! Не напасёшься!
С этими словами он рванул с плеча Вики сумку, из которой, на едва освещённую из окон дорожку, выпали документы, деньги, ключи и остальное хозяйство От резкого движения руки, он вдруг отпустил волосы и упал навзщнич головой на клумбу..
Покрываясь от ужаса испариной, Вика судорожно затолкала всё в сумку, а документы и деньги спрятала за лиф. За это время, с трудом перевернувшись на живот, Славик поднялся на четвереньки и дополз до неё, бормоча с ненавистью:
– Значит, такая вся чистенькая, умная и красивая, ты будешь рисовать, писать стихи, а я буду подыхать здесь как падаль?
Последние слова Виктория не слышала, из-за пронзившей её руку невыносимой боли! Это Славик поднялся и обеими руками выворачивал кисть левой руки в одну сторону, а большой палец – в другую, стараясь вырвать его, как варёную куриную ножку! Почти теряя сознание от боли, Вика отчаянно колотила его сумкой по рукам.
Как ты ухитряешься не замазаться в жизни в дерьме? Интересно! Голова что – ли особая? Сейчас я посмотрю что в ней!
С этими словами, он вырвал из земли, подвернувшийся, как нарочно, лом, и замахнулся над головой Вики!
А-А-А-А! КТО-НИБУ-У-УДЬ! СПАСИ-И-И-ИТЕ! У- Б-И-В-А-А-ЮТ!
ТОТЧАС ЗАМОЛКЛИ ЗА ОКНАМИ ГОЛОСА И ЗВУКИ,
ОДИН ЗА ДРУГИМ ПОГАСЛИ ЗА НИМИ ОГНИ,
ЗАХЛОПНУЛИСЬ ВЕКАМИ ШТОРЫ
И ЖУТКАЯ ЗНОБЯЩАЯ ТИШИНА И ТЬМА,
КАК НА ДНЕ КОЛОДЦА,
ОПУСТИЛАСЬ НА НЕОСТЫВШУЮ,
ОТ ЗНОЙНОГО ДНЯ, ЗЕМЛЮ!
ПОСТСКРИПТУМ
Долго, долго бежала потом Вика в непроглядной темноте по дороге, которая еле светлела асфальтом. Такой красочный и звонкий днём лес, угрюмо смыкал над головой кроны. Не видно было ни звёзд, ни луны. Только дачный пёс Тузик неслышно поспевал бежать за ней до электрички, а потом долго махал ей вслед хвостом. Это и был спаситель Вики, который вцепился в ногу обидчика, лишь только над головой Вики завис лом и раздался её отчаянный вопль о помощи. Она не поняла, почему Славик вскрикнул, почему промахнулся и упал! Как лунатик, она села в электричку, потом доехала до дома в метро, не чувствуя жгучей боли в кисти левой руки, которая посинела, опухла и висела как плеть. Утром она обнаружила на столе на розовой обложке школьной тетради новые стихи, написанные ночью, в состоянии стресса:
SOS! Сорвётся горячий бред!
SOS! Воплем немыслимых бед!
SOS! Но вас растревожит, едваль,
Чужого отчаянья даль!
В лесу равнодушья вокруг
Смыкается зарослей круг!
Морокою мозг мой изрыт,
А память стенает навзрыд!
Но ханжества тонкий лоск
Растает как зыбкий воск,
А душу твою – на панель
Выкинут хоть теперь!
Подачкою сирою – жалость,
Да небо в овчинку осталось,
Круг красным очерчен флажком,
Чтоб ты задохнулся ничком!
– Мой ангел! Да это всё блажь!
Себя возлюби и уважь!
Что было – быльём поросло!
Будь счастлива – всем назло!
Через год в «Яблочный Спас», то есть 19 августа, сидя на Тверском бульваре за памятником Есенину, Виктория машинально перелистала, оставленную кем – то, газету «Аргументы и факты».
В рубрике происшествий сообщалось, что в Переделкино найден труп неизвестного, утонувшего в состоянии сильного опьянения. Рядом для опознания была фотография покойного. ЭТО БЫЛ ОН!
ЗАПАДНЯ
Метель не прекратилась, напротив, над городом нависла сплошная пелена; на месте зданий возникли снежные курганы, кое-где из-под сугробов торчали изломанные черные деревья. Тишина и неподвижность подавляли у стрелков всякое желание переговариваться друг с другом. Двигались плотной цепью по заглохшей дороге вдоль остовов домов, напоминающих рассыпавшиеся от древности гробы; впереди, извиваясь, скользила поземка. Нулевой район остался за спиной.
Я сжимал левой рукой цевье автомата, вдавив приклад в плечо. Указательный палец правой руки в черной перчатке замер на спусковом крючке. Ствол до поры до времени глядит вниз, но в любую секунду взметнется и выплюнет в воздух свинец. Выстрелят двадцать шесть бойцов, идущих со мной бок о бок.
О, старый знакомый! Огромная каменная фигура, свернутая на бок исполинской силой, со снежными шапками на голове и плечах, указывала обрубком руки в небо. Я где-то уже видел такой же памятник. Живое божество древнего погибшего мира, гневливое и карающее могучей дланью, точно муравьев со стола, смахнувшее с родной земли людей. Ленин.
Этот район на карте был обозначен как «Мертвый» и, правда, даже по сравнению с Нулевым производил гнетущее впечатление. Здесь больше ржавых машин и троллейбусов, бетонных столбов, переломленных, как соломинки; ям, наполненных незамерзающей желтоватой жидкостью. Дома в Мертвом районе гораздо выше своих собратьев в Нулевом: шести, семи и даже десятиэтажные коробки с пустыми глазницами окон, выщерблинами и трещинами на громадных, серых и коричневых, телах. Этот мир не порождал видений, не давал возможности и желания представить, как тут было до Дня Гнева; казалось, - здесь испокон веку ветер волнует поросшие бурьяном развалины и таращится на перевернутые кверху брюхом машины мутный зрак солнца.
Автоматная очередь разорвала тишину. Я обернулся.
Мог бы и не спрашивать: Киряк, идущий третьим в левом крыле цепи, еще не успел опустить дымящийся ствол.
Какого хера?
Конунг, - правая часть лица Киряка нервно подергивалась, глаза расширились; он тяжело дышал, - Там…
Я повернул голову, куда указывала рука Киряка в грязно-белой перчатке. В одном из верхних окон трехэтажного здания, явно выбивающегося из общей громадности строений Мертвого района, что-то виднелось. Это могло быть что угодно, - треплемый ветром обрывок красных обоев, какая-нибудь тряпка; возможно, уцелевший после зачистки дикий.
Киряк, в конец цепи.
Стрелок, опустив голову, повиновался.
Еще раз пальнешь без приказа - ответишь по Уставу.
Метель усилилась, не давая рассмотреть маячащую в окне находку Киряка. Сердце моё учащенно забилось, во рту появился неприятный привкус.
Это здание только казалось трехэтажным, на самом деле, трехэтажной была небольшая пристройка, а большая часть строения - в два этажа. Желтая штукатурка осыпалась, обнажив серый потрескавшийся кирпич. К черной пасти входа вела бетонная лестница. Я ступил на нижнюю ступеньку и стал подниматься, зная, что бойцы следуют за мной так же медленно и настороженно. Возможно, как и я, они считают каждую ступеньку. Одна, вторая, третья … Восемь ступеней.
Позеленевшая табличка: «Средняя общеобразовательная школа №...». Дальше стерто, но и так ясно. То место, где бывшие учили своих детей.
«Сашка, ты в Devil Port играл? Да? Как на третьем уровне главаря убить? Ну, этого, как его, Вельзевула? Я пробовал, не получается… Слушай, приди ко мне в субботу, а? Вместе пройдем…».
Широкая зала с высокими окнами полна маленьких человеческих скелетов: пустые глазницы, обугленные разноцветные волосы, обрывки одежды на белоснежных костях. Они лежали на полу, сидели, прислонившись к стенам. У высокой кадки с черным деревом, положив друг другу на плечи руки, стояли двое. Именно стояли, и бог весть, что поддерживало их.
«Так ты придешь, Саш? – Конечно, приду. – Здоровско! Я попрошу маму, чтоб купила пиццу!».
В конце залы виднелась узкая лестница с зелеными металлическими перилами.
К лестнице, - приказал я и двинулся первым, старательно обходя останки учеников.
Треск ломаемой под суровой подошвой кости сух и неприятен. Не иначе, неуклюжий олух Киряк. До боли сжав челюсти, я не обернулся, и, достигнув лестницы, стал подниматься по истертым детскими ногами ступенькам. Сердце нещадно билось, неизвестность и нехорошее предчувствие томили, заставляя ускорять шаги. На третий этаж я вбежал, громко стуча по ступеням подметками.
Это был недлинный узкий коридор с несколькими дверными проемами; стена до середины покрыта облупившейся темно – зеленой краской, оставшаяся часть стены, вместе с потолком, – в обросшей плесенью побелке. Надо полагать, здесь находились классы, например, кабинет биологии… Но, дьявол с ним, с кабинетом. Где здесь окно, смотрящее на улицу?
Не давая себе передышки, я вбежал в дверной проем ближайшего кабинета и замер, точно натолкнувшись на невидимую стену.
Е… мою душу, - послышалось за спиной.
Бойцы друг за другом входили в кабинет, и здесь становилось тесновато.
Что это конунг? – шепнул Белка.
А то ты не видишь: у окна, так, чтобы было видно с улицы, подвешены за руки к потолку два освежеванных человеческих тела. Именно освежеванных, - я никогда не видел, чтобы с человека так аккуратно была снята кожа.
Перламутровые узлы мышц и сухожилий утопают в багровом, сочащемся кровью, мясе. Кровь капля за каплей стекает на пол, срываясь с кончиков пальцев на посинелых ступнях.
Я посмотрел на свои ботинки - на полу лужа крови.
Ни х… себе питеры работают, - нервно проговорил Якши, целясь из автомата в одно из тел. – Никогда не видел, чтоб так диких зачищали.
Я приблизился к трупам, и дулом автомата ткнул пониже ягодицы ближайшее тело – твердое, точно камень. Оно покачнулось; веревка, стягивающая руки, скрипнула. Я ткнул сильнее, и тело, нелепо махнув безжизненными ногами, повернулось так, что стало видно лицо убитого. Кто-то у меня за спиной вскрикнул. Я поскользнулся на скользком полу и стал валиться назад, но сильные руки поддержали меня.
Изуродованное - срезанный начисто нос, разорванные щеки - лицо Машеньки смотрело на нас багровой беспомощностью пустых глазниц. Живот бывшего начальника продвагона вспорот, все внутренности куда-то исчезли, на месте гениталий - две белые веревочки.
Богдан разразился длинным ругательством. У кого-то из стрелков началась рвота.
Осторожно ступая по залитому кровью полу, Белка подошел ко второму трупу, приглушенным голосом сообщил:
Итак, дезертиры найдены. Череп устранен. Недалеко эти двое ушли… Я мог бы радоваться, если б не пустота в груди. И эту пустоту быстро заполняло другое чувство.
Зверское убийство стрелков моего отряда, доверенных Лорд – мэром мне, их конунгу, в подчинение, не могло вызвать ничего, кроме ярости по отношению к тому, кто это сделал. Я несу ответственность за моих людей, хотя бы перед своей совестью, и только мне решать, когда и какое они понесут наказание. Вернее, мне, вооруженному Уставом Наказаний Армии Московской резервации.
-Гнида!
Надрывный крик, отразившись от стен, вылетел из кабинета и, угасая, помчался по коридорам школы. Прямо передо мной возник Джон, - на виднеющемся из – под шлема лбу – испарина, безумные глаза с расширившимися до предела зрачками и красными белками, точно когтями впились мне в лицо:
Куда ты привел нас, гнида?
Джон! – крикнул Белка.
Но стрелок уже размахнулся и его кулак, описав дугу, угодил мне в висок. В голове точно взорвалась граната; я поскользнулся и, стукнувшись обо что-то твердое, упал на спину, прямо в кровавое месиво на полу. Труп Самира, покачнувшись, сорвался с веревки и придавил мне ноги.
Что ты делаешь, ублюдок?! – в чудовищном реве трудно было распознать всегда ровный голос Белки.
Он и еще несколько стрелков скрутили Джона, кто-то вдавил в его лоб дуло автомата.
Отставить, - превозмогая боль, крикнул я.
Оттолкнув кинувшегося на помощь Киряка, выкарабкался из-под мертвеца.
Отпустите Джона, - приказал я, левой рукой потирая висок.
Но конунг, по Уставу…,- начал было Белка.
Отпустить!
Хватит с меня уставов, инструкций и советов, - пусть ими пользуются те, кто их придумал.
Заберите у него оружие и патроны, - бросил я, подобрав слетевший с плеча автомат. Дьявол! Приклад весь в крови.
Киряк, Сергей, сожгите это, - я кивнул на трупы, - Через двадцать минут выступаем.
Но двадцати минут у нас не было.
Поначалу мне показалось, что автоматные очереди раздались в отдалении, в Нулевом районе или еще дальше; но посыпавшаяся с потолка штукатурка подсказала: стреляют снизу, прямо со школьного двора.
Питеры, - охнул Киряк, отступая в коридор. За ним последовали еще несколько стрелков.
«Западня», - вспыхнуло у меня в мозгу и тут же погасло.
Нужно действовать.
Я метнулся к окну, за подвешенное тело. Звук пуль, врезавшихся в одеревенелое мясо, напомнил частый дождь.
За снежным маревом, на другой стороне улицы, промелькнули тени; выпустив автоматную очередь, я с наслаждением услышал резкий вскрик.
Конунг, надо сваливать! - крикнул Белка. Он подполз к окну по-пластунски, и, упираясь головой в радиатор, смотрел на меня из-под шлема.
Белка прав.
Расстреляв остатки обоймы, я опустился на липкий от крови пол, на четвереньках отполз от окна.
Отряд ждал в коридоре. Я не увидел лиц своих людей, стрелки точно превратились в безликие фигуры, которые я обязан сохранить. Потные тела, оружие в руках, горячее дыхание, но лиц нет.
Конунг, что нам делать? – выдохнул Киряк.
Я увидел лицо бойца - обыкновенно красное, а в это мгновение – белее снега. Стрелки моего отряда настороженно смотрели на меня. Снаружи доносилась пальба.
Внезапно все стихло, неотвязная, липкая тишина спеленала нас, точно муху паук. Мне показалось, что я слышу биение собственного сердца и неровный хор двадцати шести сердец доверенных мне бойцов. Когда тишина стала непереносимой, когда пот, струящийся вдоль позвоночника, стал ледяным, с улицы донеслось:
Эй, конунг, или кто там у вас главный?
Я молчал. Стрелки смотрели на меня настороженными глазами.
Ты оглох, б… , обосрался от страху, москвитская падаль?
Хохот нескольких десятков глоток.
Конунг, не отвечай, - шепнул Белка.
Я махнул рукой: оставайтесь на месте – и шагнул обратно в кабинет. Присев неподалеку от распластанного на полу тела Самира, крикнул, стараясь перекрыть хохот снаружи:
С кем я говорю?
За окном стихло. Через мгновение – тот же голос.
Не тебе вопросы задавать, москвит!
Злость и отчаяние душили меня.
Тогда пошел на хер, питерская мразь.
Мой собеседник вдруг засмеялся - противный, скользкий смех, как козявка, вынутая из носа.
Не кипятись, воробушек, - крикнул он, – гнездо уже разворошили. Я – конунг отряда Питерской Резервации Кляйнберг. Назови себя.
Артур, конунг отряда москвитов.
Молчание.
Какого дьявола тебе надо, Кляйнберг? – в моей душе, непонятно почему, разгоралась надежда. – Мой отряд здесь со стандартной миссией.
Зачем ты прикончил моих людей? Ваш отец Афанасий…
Срал я на отца Афанасия, - заорал Кляйнберг. – Ты мне зубы не заговаривай, гнида!
Он умолк. Я тоже.
Твои люди сами притащились ко мне, - первым не выдержал питер: возможно, мне почудилось, что после упоминания отца Афанасия голос Кляйнберга стал не таким уверенным, - Они готовы были рассказать почти все; мы просто слегка помогли им снять одервенение языка. Они рассказали нам все.
Снова хохот питерских глоток.
Я не хочу крови, конунг, - уже совсем миролюбиво продолжал Кляйнберг. – Сложи оружие по-хорошему, и, клянусь, никто не пострадает.
Я засмеялся:
Ты за дурака меня принимаешь, конунг?
Знал, что так ответишь, Артур, - крикнул Кляйнберг. – Ты, похоже, веселый парень. Мы могли бы с тобой стать корешами, не будь ты вонючим москвитом.
Тамбовский волк тебе кореш!
Какой волк? – удивился питер.
Этот вопрос я оставил без ответа. За моей спиной затаился мой отряд, я слышал напряженное дыхание бойцов: никого не обманул миролюбивый тон Кляйнберга. Ветер врывался в комнату и покачивал тело Машеньки; веревки скрипели.
Так что будешь делать, Артур? Пожалей своих людей!
Так же и ты, Кляйнберг!
Наждачный смех питера был уже не столь неприятен, - привычка.
Ты мне нравишься, Артур. На твоем месте я пустил бы пулю в лоб… Интересно, как ты выглядишь? Жирный, небось, боров, мускулы, мускус, - все дела! Вы, москвиты, любите обжираться…
Поднимись сюда и посмотри.
Повременю, - отозвался Кляйнберг. – Скоро вы сдохнете с голоду, и мы придем полюбоваться на вас. Как, конунг, много у тебя в запасе тварки?
В таком случае, закончим пустой треп.
Я повернулся к дверному проему.
Постой, конунг, - крикнул Кляйнберг. – Ты кое-что запамятовал.
И что же?
Право на поединок! Или в Уставе москвитов оно не прописано?
Вика пробыла выходные у знакомых на даче, и к вечеру собралась домой в Москву. Оставив провожающих у калитки, она побежала на антресоли за сумкой, которую легкомысленно оставила там после праздничного застолья. В ней находились документы, деньги, ключи, косметика и ещё многое, на все случаи жизни. За ней издали затрусил деликатный беспородный пёс Тузик. Он всюду сопровождал её и подолгу ждал у очередной двери, будто нёс за неё личную ответственность. Поднимаясь по винтовой лестнице, Вика обнаружила, что за ней, теряя равновесие и цепляясь за ступени руками, резво поднимается Славик, изрядно выпивший хозяин дачи. Не помня себя от страха, Вика добежала до заветной сумки, схватила её и помчалась назад, но было уже поздно!
Нет! Нет! Не уходи! – закричал, дрожащий от возбуждёния, Славик, закрывая собою дверь. – Побудь ещё хоть немного! Я скоро отойду и провожу тебя до станции. Может – быть, я обидел тебя? Или что-нибудь сделал не так? Послушай пока Высоцкого, а? Умоляю! Останься! Хочешь, стану на колени? Он грузно шлёпнулся на колени, и раскачиваясь из стороны в сторону, громко зарыдал. Его алая рубашка, как зловещий цвет светофора, маячил перед глазами, словно предупреждая о смертельной опасности! От потрясения у Вики подкашивались ноги. Она присела на подвернувшийся стул, осознавая жуткую ситуацию, в которую попала по своей неосмотрительности!
Никому я давно не нужен, ни матери, ни отцу, - продолжал рыдать Славик, размазывая по лицу слёзы. – Это вовсе не родной мой отец. Отчим! Мать, когда трезвая, в лицо ему повторяет, что ненавидит, а любит моего отца, который сама бросила и он давно женат на другой. Ругаются. Дерутся.Речь его теряет эмоциональность, глохнет. Лицо гаснет, выявляя множество морщин, и становится похожим на кору старого дерева. Теперь в ногах Вики, вместо моложавого галантного франта, валяется трясущийся старик, с дребезжащим голосом и бесстыдно выглядывающей лысиной:
Вот и пьют. Мать упъётся, и всё забывает. Бедный я, несчастный должен погибать вместе с ними, и нет мне спасения! Дальше Вика не слышала его слов. Мозг, независимо от её усилий, напряженно анализировал ситуации и, как профессиональный шахматист, прощитывал ходы и искал единственный выход:
Нет безвыходного положения, пока жив человек - повторяла ей мать. - Пока жив? Да, конечно! Для покойной мамы уже не существует понятия ВРЕМЯ! Оно навсегда остановилось. Часы начали обратный отсчёт! Но моё ВРЕМЯ имеет быть! На весах бытия каждого человека существуют равновеликие - ЖИЗНЬ и ВРЕМЯ! Время – это бесценное приданное каждого. Время жизни можно увеличить, обогатить и обессмертить - образованием, творчеством, наукой. Либо осквернить, обесчестить, пропить как люди «дна»! Сердце билось ровно. Дышалось легко и спокойно, будто открылось некое второе дыханье, как в беге на длинной дистанции!
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Не беда, что не рисую,
В жизни ярострой пляшу
Балериной на канате,
Да всю ночь СТИХИ ПИШУ!
Что мне страсти лихолетья,
Коль страданья не ношу,
Торбой писаной, сияньем,
А всю ночь СТИХИ ПИШУ!
Ни в религию! Ни в омут!
Ни в постели! Ни в висок!
Путеводными столбами
ПРАВДА ВЫСТРАДАННЫХ СТРОК!
И, мужая, выживаю
Всем завистникам назло,
Хоть мишенью вызываю
Выстрел в спину и в лицо!
Вновь стихами изойдуся,
Крик души пока не стих,
Ярость в жилах разольётся,
Просочится в КАЖДЫЙ СТИХ!
Вспыхнет маком и гвохдикой,
Пульсом бъётся рифма строк,
И ДЫХАНИЕ ВТОРОЕ
Вновь откроется мне в срок!
Круг общения Вики давно ограничивался исключительно творческой интеллигенцией. Она впервые попала в чужой незнакомый мир «дна» семейства алкоголиков и, по размышлению, пришла к выводу:
Там человек является ничтожеством, плывущим по мутному течению жизни. Он дичает и, не прикладывает ни малейших усилий, чтобы осознать и остановить процесс распада, увлекает в пучину гибели своё окружение, и так кругами – как от брошенного в воду камня, получая дьявольское наслаждение!
Тем временем Славик, довольный результатом разыгранного спектакля, весело засуетился, разыскивая плёнку с записью Высоцкого. Он энергично, что-то мурлыча под нос, рылся в ящике допотопного комода, выбрасывая на пол спутанные магнитофонные ленты, пока не нашёл нужную. Потом, зигзагами, как муравей, перебежал комнату, вытащил разношерстные обрывки бумаг, гордо разложил их на столе перед Викой и попросил с достоинством:
Смотри пока. Сам рисовал, а я быстренько перемотаю ленту.
Равнодушно перелистав беспомощные копии цветными карандашами из старых «Огоньков», Вика решительно поднялась и попрощалась:
- Благодарю покорно за внимание и угощения. Прошу прощения за хлопоты и беспокойство. Уезжаю! Поздно! Доберусь до станции сама. Всего доброго. Не смею больше задерживаться. Прощайте! Не поминайте лихом! – стараясь не выдавать животного страха, негромко приветливо произнесла Виктория и решительно поднялась.
А Высоцкий?
Послушайте сами. Непременно. Настоятельно рекомендую!
Уверенно надев через плечо злосчастную сумку, Вика сбежала вниз, усилием воли преодолевая оцепенение, и оказалась в темноте перед запертой дверью! Заглянула на кухню. Никого. Окно зарешечено! Рядом, за дверью скульптора, работал телевизор, и слышались голоса. Вика несколько раз громко постучала. Никто не ответил. Дёрнула дверь – она была заперта! Взлетев по лестнице, и пробежав мимо Славика, Вика вылетела на зыбкий балкон. Вокруг – ни души! На горизонте зловеще полыхало заходящее солнце…
Да ты что? – залепетал, задыхаясь Славик. Родители собирались тебя провожать, но, видно, не дождались, подумали что ты незаметно ушла, а мать по инерции заперла дверь! Это точно! Ты что? Боишься что ли? Я в жизни ещё никого не обидел. Садись. Отдыхай пока. Полистай мои рисунки. Посоветуй, как рисовать. Может быть, и я стану художником, хоть и поздно, как Ван Гог.
Он опять закопошился с лентами у магнитофона. Под балконом кто – то запрыгал. Перегнувшись через хлипкие перила, Вика разглядела, прыгающую через веревочку, знакомую девочку из семейства грибников.
Девочка, позови, пожалуйста, скорей хозяйку, попроси, чтобы открыла дверь, а то я опоздаю на последнюю электричку!
Она давно ушла на свою квартиру, - пропищала девочка, не переставая прыгать. – Если мама разрешит, схожу! Из окна тотчас высунулась голова матери, сельской учительницы, с которой Вика ещё недавно долго разговаривала и читала свои детские стихи. Она как отрезала:
Таня, домой! Не смей никуда ходить! Сейчас будем кушать!
Сало тихо. За спиной Вики раздался довольный голос:
Мать отоспится и придёт теперь только утром. Раньше её не поднимешь. Это точно! Не бойся ты! Я тебя не трону. Садись. Поедим, что осталось. А кое- что у меня припасено специально для тебя, - с этими словами, он умело открыл и бережно поставил на стол большую бутылку портвейна. - Наверное, будет дождь. Душно. Если хочешь, расстегни лифчик. Я смотреть не буду. Это точно. Раз водку не пьёшь, вот тебе дамское вино, - виновато бормотал он. Поставив на стол жалкие остатки закуски и две рюмки, он присел на краешек ветхого стула. Вика молча наблюдала.
Бери, ешь, что бог послал. Не стесняйся.
Вика не ответила, лишь пересела подальше. Славик больше не обращал на неё внимания, и весь дрожал от нетерпения. Больше он будто не замечал Вику. Он осторожно наливал дрожащей рукой себе вино и, медленно, полузакрыв глаза, с наслаждением пил, не закусывая. Лицо его просветлело, глаза засветились радостью, он пребывал в состоянии полного блаженства. Счастливый и просветлённый, обернулся с улыбкой к Вике и торжественно произнёс:
Вообще то я не женат! Делаю тебе официальное предложение. Это точно! Выходи за меня замуж. Не пожалеешь. Пойдём завтра же в загс. А? Родишь мне сына. Мне нужен наследник. Оставлю ему дачу. Кое - что и на сберкнижке есть. Это точно! Соглашайся!»
Об этом не может быть речи,- строго парировала Вика.- Послушаем Высоцкого, - и с отвращением подумала:
Видимо, именно это говорят в аналогичных случаях! Это спившееся существо, давно дошедшее до уровня одноклеточной амёбы, стремлению к сексуальному насилию надо мной придаёт некий антураж!
Извини меня, пожалуйста! Я брошу пить – неожиданно твёрдо и убедительно продолжил Славик. - Честное слово. Клянусь! Сегодня пью в последний раз, как участковому недавно обещал. Он дал мне последний срок – три дня, чтобы устроился на работу. На старую не хожу несколько месяцев. Если уволят по статье за пьянство, нигде меня не возьмут. Пойдём завтра, пожалуйста, вместе? Скажете им всё это. Вам поверят и отдают Трудовую чистой. А на новом месте я всё начну сначала! Умоляю! Сжальтесь! Хотите, стану на колени? – он тут же рухнул на колени и пополз к Вике.
Не нужно устраивать комедий и истерик! – жёстко остановила его Вика, отодвигаясь дальше. – Дайте телефон работы. Я позвоню, когда вернусь, из дома и поговорю с руководством. Утром я должна быть на работе. Проспитесь, и на ясную голову будете решать проблему с работой. Посоветуйтесь с родителями. Покорно дослушав Вику, с несчастным выражением на лице, он благополучно водрузился на стул и тут же налил себе вина. По его старообразному медленно лицу катились слёзы. Он старел на глазах. Трудно было понять, сколько ему лет - 50? 60? 70?
Никому я теперь не нужен и жизнь у меня пропащая. Была машина. Увели. Была жена. Бросила. – и как бы отвечая Вике, глядя ей в глаза, дальше пожаловался: - Юбилей у меня. 40 стукнуло. Это точно!
Говоря, он допивал вино и всё больше и больше пьянел. Потом трясущейся рукой он безуспешно пытался убрать со стола опустевшую бутылку. Смахнул тарелки с закуской на пол. Осколки и еда разлетелись вокруг. Руки, как у слепого, продолжали шарить над столом.
Кажется, у меня есть ребёнок. Точно не помню, сын или дочь, и как звать. Эта девка всё ходила с ребёнком ко мне на работу. Хотела выбить алименты, да ничего не вышло. Ещё бы не хотеть! Я получал в те времена как министр! Пей, гуляй, сколько хочешь! Хватало! И сейчас хватает! Знаешь, сколько у меня летом дачников? А зимой сдаю цыганам и художникам. Выходи за меня замуж! Не пожалеешь! Одену как королеву в меха и бриллианты! Куплю к свадьбе тебе белую машину. Повезёт нас к алтарю тройка с бубенцами. Будут петь, и плясать цыгане. Говорил он с трудом, еле выталкивая из себя слова. Язык заплетался. Закрывались глаза. Он валился со стула и жилистыми руками, как паук, тянулся, чтобы ухватиться за край стола и с трудом опять забормотал:
Сварщик я. Высший разряд. Ты не бойся. Дачу я переписал на отца, а сам прописался у матери в коммуналке. Теперь она получит двухкомнатную квартиру. С женой я не расписывался. Приезжая она. Никому ничего не докажет, и ничего не получит. Она работает по лимиту в больнице. Маленькая, худющая. Кость да кожа. Не то что ты – художник, журналист, королева! А она горшки выносит. Моет судна. Тьфу! Противно! От неё дохлый ребёнок мне не нужен. С временной пропиской она будет хрячить там 10 лет. Собирается поступить в медицинский на хирурга. Смех просто. Сопливая девчонка. 17 ей. Польстилась на прописку. Таких желающих много. Могу выбрать.Но эта зараза обязательно поступит. Настырная она. Это точно! Наконец, он ухватился за угол стола, оттолкнулся, зигзагами по диагонали, падая вперёд, добежал до магнитофона и врубил его на полную мощность. Затем стянул с себя брюки и рубашку, обнажая хилое жёлтое тело, повалился на постель и захрапел. Комнату заполнил, перекрывая богатырский храп, надрывный голос Высоцкого, который заполнил всё пространство, бился о стены и вытек в сад, вытесняя остальные звуки.
Рвусь из сил - из всех сухожилий…
Обложили меня, обложили…
Хоть дожить - не успеть
То хотя бы допеть…
Напряжение спало, по телу разлился покой, стало легко дышать и думать
Высоцкий появился в нужное время, и в нужном месте, - рассуждала Вика. – Он явился голосом, знамением поколения, его рупором. Был нужен народный заступник, и он появился. В голове явственно возникли строки стиха к Высоцкому, написанного в годовщину его смерти, после встречи с бардами в мастерской художника Доброва в Столешниковом, где бывал Леонид Губанов и другие гонимые поэты. Виктория мысленно вступила с Высоцким в диалог:
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
Владимир Высоцкий, цикорием славы усыпан,
Под тяжестью трупов – цветов, источающих запах рыданий,
И склеп почитаний и славы ему неуютен и тесен,
И душит петлёю морскою слюнявая мода признаний.
Хрипит, надрываясь, с пластинки заезженной каждого,
Безусого мальца, одетого в стиле модерна,
И в чёрных рубахах, гитарами перепоясаны,
Салонные барды поганками зреют на дёрне!
То барды из тех, что несут свою сущность из баров,
Пресыщенной плотью в заморских одёжках колышат,
И матово тренькают – сладко и складно. С пробором
головкой трясут и собою, как воздухом, дышат!
О чём же поётся детьми инкубатора нервного времени,
Влачащих, цветами бумажными, песни к застолью?
И жизнь коротая, за муторной склянкой портвейна,
Не любят! Не сеют! Детей не рожают, тем более!
Где, брат мой, твоя нетерпимость к искусному ханжеству,
Где правдою жизни ни веет, ни каплет, ни дышится?
Восстанешь ли ливнем, грозою, сермяжною правдою,
Когда эта патока трелей постылых послышится?
Рассыпь всё Загробье, с высот вознесённый Высоцкий!
Ты весь был, как факел, что светит в ночи жизни,
И в песнях твоих, что берём мы с собою в дорогу,
Натянутым нервом, звенящем струною, ЖИВ ТЫ!
Разговор с Высоцким окончился. Звук оборвался на полуслове, как его жизнь! Вика тихо поднялась и на цыпочках, в невыносимой знобящей тишине, неслышно прошла помещение, спустилась в общую прихожую, осторожно нащупывая ступени скрипучей лестницы, и распахнула дверь кухни. Что – то блеснуло и погасло на стене. Ключ! Это ведь ключ! Ещё секунда и он в руке! Теперь нужно попасть в замок… Время тянется невыносимо томительно, как в замедленном кинокадре. Но вот ключ в замке! В эту минуту над головой Вики раздаётся пронзительный крик:
- СТО – О – О – ОЙ! НЕ УЙДЁ – Ё – Ё - ЁШЬ…
Проснувшись от резко наступившей тишины, Славик босиком, лишь в полосатых трусах, буквально скатывается по ступеням и, теряя равновесие, хватается за вырез сарафана со спины. Ключ в это время легко поворачивается, и дверь распахивается настежь! Вместе с вечерней прохладой, со двора хлынуло множество звуков, которые источала дача: детские голоса, звуки радио и телевизоров, где – спорили, лаяли собаки, пели под гитару, играла гармонь! В этом шуме безнадёжно затерялся отчаянный женский крик:
- А - А – А – А… ПОМОГИ –И - И – И -ИТЕ –Е –Е –Е…
Это Славик, падая за порог всей тяжестью потного, скользкого тела, ухватил Вику за распустившиеся длинные волосы! Наматывая на руку пряди волос, он повис на них, потеряв точку опоры, и тяжело дыша в затылок тошнотворным перегаром, хрипло заорал:
Хочешь уйти чистенькой? Не выйдет! Я много таких ловил на замужество и трахал неделями, сколько хотел, пока хватало сил! Десятки! Детей наплодил, наверное, видимо – невидимо! Это точно! Особенно люблю интеллигентных. Они чистые и хорошо пахнут, и никому потом не жалуются! Берегут репутацию! Мне полный кайф!
ДАЧНИКИ ПОЧУЯЛИ НЕЛАДНЕОЕ С ГОСТЬЕЙ,
И С ЛЮБОПЫТСТВОМ ПРИЛЬНУЛИ К ОКНАМ!
Другой, трясущейся рукой, он потянулся к её сумке:
Посмотрим что у тебя там. Может быть, украла что – нибудь? А то после каждой пропадают деньги и вещи! Не напасёшься!
С этими словами он рванул с плеча Вики сумку, из которой, на едва освещённую из окон дорожку, выпали документы, деньги, ключи и остальное хозяйство От резкого движения руки, он вдруг отпустил волосы и упал навзщнич головой на клумбу..
Покрываясь от ужаса испариной, Вика судорожно затолкала всё в сумку, а документы и деньги спрятала за лиф. За это время, с трудом перевернувшись на живот, Славик поднялся на четвереньки и дополз до неё, бормоча с ненавистью:
Значит, такая вся чистенькая, умная и красивая, ты будешь рисовать, писать стихи, а я буду подыхать здесь как падаль?
Последние слова Виктория не слышала, из-за пронзившей её руку невыносимой боли! Это Славик поднялся и обеими руками выворачивал кисть левой руки в одну сторону, а большой палец – в другую, стараясь вырвать его, как варёную куриную ножку! Почти теряя сознание от боли, Вика отчаянно колотила его сумкой по рукам.
Как ты ухитряешься не замазаться в жизни в дерьме? Интересно! Голова что – ли особая? Сейчас я посмотрю что в ней!
С этими словами, он вырвал из земли, подвернувшийся, как нарочно, лом, и замахнулся над головой Вики!
А-А-А-А! КТО-НИБУ-У-УДЬ! СПАСИ-И-И-ИТЕ!
У- Б-И-В-А-А-ЮТ!
разрезал вечернюю многоголосую благодать отчаянный женский крик!
Тотчас замолкли за окнами голоса и звуки,
один за другим погасли за ни огни,
захлопнулись веками шторы
и жуткая знобящая тишина и тьма,
как на дне колодца,
опустилась на неостывшую,
от знойного дня,землю!
ПОСТСКРИПТУМ
Долго, долго бежала потом Вика в непроглядной темноте по дороге, которая еле светлела асфальтом. Такой красочный и звонкий днём лес, угрюмо смыкал над головой кроны. Не видно было ни звёзд, ни луны. Только дачный пёс Тузик неслышно поспевал бежать за ней до электрички, а потом долго махал ей вслед хвостом. Это и был спаситель Вики, который вцепился в ногу обидчика, лишь только над головой Вики завис лом и раздался её отчаянный вопль о помощи.Она не поняла, почему Славик вскрикнул, почему промахнулся и упал! Как лунатик, она села в электричку, потом доехала до дома в метро, не чувствуя жгучей боли в кисти левой руки, которая посинела, опухла и висела как плеть. Утром она обнаружила на столе на розовой обложке школьной тетради новые стихи, написанные ночью, в состоянии стресса:
SOS! Сорвётся горячий бред!
SOS! Воплем немыслимых бед!
SOS! Но вас растревожит, едваль,
Чужого отчаянья даль!
В лесу равнодушья вокруг
Смыкается зарослей круг!
Морокою мозг мой изрыт,
А память стенает навзрыд!
Но ханжества тонкий лоск
Растает как зыбкий воск,
А душу твою – на панель
Выкинут хоть теперь!
Подачкою сирою – жалость,
Да небо в овчинку осталось,
Круг красным очерчен флажком,
Чтоб ты задохнулся ничком!
Мой ангел! Да это всё блажь!
Себя возлюби и уважь!
Что было – быльём поросло!
Будь счастлива - всем назло!
В «Яблочный Спас», то есть 19 августа, сидя на Тверском бульваре за памятником Есенину, Виктория машинально перелистала, оставленную кем – то, газету «Аргументы и факты».В рубрике происшествий сообщалось, что в Переделкино найден труп неизвестного, утонувшего в состоянии сильного опьянения. Рядом для опознания была фотография покойного. ЭТО БЫЛ ОН!