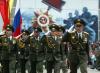Пояснительная записка
Цель данного факультативного курса – уточнить и расширить представление студентов о библейской образности в русской литературе, ее особенностях и функционировании.
Его задачи:
– определить черты Библии как богодухновенного Священного Писания и как важнейшего памятника письменности и культуры человечества;
– уточнить специфику и определяющие черты библейской образности как художественного феномена;
– определить, какую роль библейские образы играют в стиле русской литературы;
– выявить то, какие черты культурных стилей соответствующих эпох и индивидуальных поэтических стилей несут на себе библейские образы в русской литературе;
– определить эволюцию библейской образности в русской литературе последних трех столетий;
– выявить основные функции литературной библейской образности;
– проанализировать наиболее характерные случаи воплощения библейской образности в произведениях, включенных в школьные программы по литературе.
Курс рассчитан на 36 часов аудиторных лекционных занятий.
Тематика аудиторных занятий
1 Библия как памятник письменности и культуры. Богодухновенность Священного Писания
2 Библия в христианской религии и богослужении. Библейские жанры
3 Христианство в стиле русской литературы. Библейская образность как характерная его составляющая
4 Ветхий Завет в русской литературе. Моисеево Пятикнижие
5 Образы Давида и Соломона в Библии и в ее литературных переложениях
6 Стихотворные переложения – парафразисы Псалтыри
7 Книги пророков Иова и Исайи в русской литературе
8 "Ветка Палестины". Святая земля в русской поэзии и прозе
9 Библейские женщины в изображении русских поэтов
10 Молитва и ее функции в произведениях русской литературы
11 Новый Завет в русской литературе. Иоанн Креститель
12 Христос в русской поэзии и прозе
13 Новозаветная притча и ее литературные образы
14 Образ Богородицы в русской литературе
15 Новозаветные иконописные образы в русской литературе
16 Литургические образы в русской литературе
17 Апокалипсис в изображении русских поэтов и писателей
18 Библейские образы в русской литературе конца XX – начала XXI веков
Тема 1. Библия как памятник письменности и культуры. Богодухновенность Священного Писания
Состав и история создания Библии. Ветхий и Новый Заветы. Типы библейских книг. Книги канонические и неканонические. Апокрифы. Библия и Священное предание. Святоотеческое наследие о понимании Библии и ее роли. Богодухновенность библейских книг.
Тема 2. Библия в христианской религии и богослужении. Библейские жанры
Библия как откровение. Библия как основа христианского миросозерцания и богослужения. Божественная литургия как главная служба Восточной Христианской Церкви и ее библейская основа. Основные библейские жанры: молитва, песня, плач, притча, видение, поучение, хроника. Стихотворение "Библия" В.А. Жуковского: поэтический образ Книги книг.
Тема 3. Христианство в стиле русской литературы. Библейская образность как характерная его составляющая
Христианская составляющая стиля русской литературы. Ее профетический характер и жизнестроительность. Религиозность древнерусской литературы. Христианская основа русской классики XVIII – XIX веков. Роль библейской и литургической образности, христианского предания в русской литературе. Проблема веры и безверия в русской поэзии и прозе (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, А.М. Горький и другие)
Тема 4. Ветхий Завет в русской литературе. Моисеево Пятикнижие
Ветхозаветная образность в мировой культуре. Ветхий завет в русском искусстве. Образ Бога-Отца. Литературные переложения Моисеева Пятикнижия: образы рая, грехопадения, египетского плена, исхода и другие (Ф.Н. Глинка, В.А. Жуковский, В.Г. Бенедиктов, Я.П. Полонский, В.С. Соловьев, В.Я. Брюсов, Н.С. Гумилев и другие).
Тема 5. Давид и Соломон в Библии и в ее литературных переложениях
Давид как воин, израильский царь, Помазанник Божий, пророк и поэт. Образ Давида в русской поэзии (А.С. Грибоедов, В.К. Кюхельбекер, М.Ю. Лермонтов, А.С. Хомяков, Л.А. Мей, Н.А. Оцуп и другие). Соломон как царь, мудрец, автор нескольких библейских книг. Образ Соломона в русской поэзии и прозе (М.М. Херасков, Г.Р. Державин, Ф.К. Сологуб, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Эллис, А.И. Куприн, К.А. Липскеров и другие).
Тема 6. Стихотворные переложения – парафразисы Псалтыри
Традиции переложений и цитирования псалмов в древнерусской литературе. "Псалтырь рифмотворная" Симеона Полоцкого. "Три оды парафрастические из псалма 143" (М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков): творческий спор о путях развития русской поэзии. Переложения псалмов Г.Р. Державина, В.В. Капниста, В.К. Кюхельбекера, Н.М. Языкова, Ф.Н. Глинки и других. Псалтырь в стиле русской поэзии.
Тема 7. Книги пророков Иова и Исайи в русской литературе
Переосмысление книги пророка Иова в русской поэзии и прозе (М.В. Ломоносов, К.М. Фофанов, М. Горький, Л.Н. Андреев, Вяч.И. Иванов, В.К. Шилейко, И.С. Шмелев, Г. Раевский). "Призвание Исаии" Ф.Н. Глинки. Видение пророка Исайи и его роль во внутренней форме стихотворения А.С. Пушкина "Пророк". Образы пророка Исайи в стихотворениях А.А. Голенищева-Кутузова, Д.С. Мережковского, И.А. Бунина, И.И. Тхоржевского и других. Образ поэта-пророка в романтической поэзии первой половины XIX века и литературе рубежа XIX-ХХ веков.
Тема 8. "Ветка Палестины". Святая земля в русской поэзии и прозе
Изображение Святой земли в русских народных духовных стихах и древнерусских хожениях. "Ветка Палестины" М.Ю. Лермонтова. Цикл сонетов "Палестина" А.М. Федорова. Стихотворения "Иерусалим", "Иерихон", "Долина Иосафата", прозаические "путевые поэмы" "Тень птицы" И.А. Бунина: раскрытие образа Святой земли в произведениях с различными жанровыми доминантами.
Тема 9. Библейские женщины в изображении русских поэтов
"Ода XIX. Парафразис песни Анны, матери Самуила пророка" В.К. Тредиаковского. "Библейские стихи" А.А. Ахматовой: черты стилизации Библии и современный поэту культурный и исторический контекст. Рахиль (И.А. Бунин и другие). Юдифь (Л.А. Мей, Н.С. Гумилев, К.Н. Бальмонт, К.А. Липскеров, М.М. Шкапская). Агарь (Я.П. Полонский, М.И. Цветаева). Мария Магдалина (Н.П. Огарев, В.М. Василенко).
Тема 10. Молитва и ее функции в произведениях русской литературы
Молитва в русской поэзии, ее особенности и функции. Г.Р. Державин, Ф.Н. Глинка, А.С. Пушкин, В.К. Кюхельбекер, Н.М. Языков, Д.В. Веневитинов, М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов, Е.П. Ростопчина, Н.П. Огарев, Ф.И. Тютчев, И.С. Тургенев, И.С. Никитин, А.К. Толстой, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Я.П. Полонский, Н.Ф. Щербина, Л.А. Мей, Н.М. Минский, З.Н. Гиппиус, И.А. Бунин, А.А. Ахматова, С.А. Есенин и другие. Молитва в русской прозе ХХ века: И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев, Л.Н. Андреев, М.А. Булгаков, М.А. Шолохов. Молитва в авторском стиле, в культурной эпохе.
Тема 11. Новый Завет в русской литературе. Иоанн Креститель
Новозаветная образность в мировой культуре. Пасхальность как ключевая составляющая русской культуры. Новый завет в стиле русской литературы. Стихотворение К.Р. "Евангелие". Иоанн Креститель и ветхозаветные пророки. Парафразирование Евангелия в стихотворении К. Льдова "Пророк Иоанн". Иоанн Предтеча в романе Д.С. Мережковского "Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)", в произведениях А.М. Ремизова: образ пророка и доминанты авторского стиля. Иконография Иоанна в словесной образности литературного произведения.
Тема 12. Христос в русской поэзии и прозе
Образ Спасителя в русской лирике: Г.Р. Державин, Ф.Н. Глинка, А.С. Пушкин, А.К. Толстой, В.С. Соловьев, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин и другие. Страсти Христовы и торжество Воскресения в литургической поэзии и в изображении русских поэтов и писателей (В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, А.Н. Апухтин, Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, И.А. Бунин, А.А. Ахматова, И.С. Шмелев и другие). Христианская молитва в литературной интерпретации.
Тема 13. Новозаветная притча и ее литературные образы
Традиции древнерусской притчи. Притчи – басни в литературе XVIII века. Притча о блудном сыне в творческом переосмыслении А.С. Пушкина ("Станционный смотритель", "Записки молодого человека", "Воспоминания в Царском Селе", 1829). Притча о блудном сыне в русской поэзии (В.Я. Брюсов). "Лепта вдовицы" О.Н. Чуминой. "Притча о сеятеле" А.М. Жемчужникова. "Притча о десяти девах" К.Р. "Притча о богатом" Д.С. Мережковского.
Тема 14. Образ Богородицы в русской литературе
Изображение Богородицы в древнерусской литературе (торжественные слова, агиография, эпистолярные жанры, апокрифы). Акафисты Божией Матери и связанная с Ней литургическая поэзия. Образ Богородицы и Рождества Христова в русской поэзии и прозе (В.А. Жуковский, А.К. Толстой, В.В. Вересаев, Б.Л. Пастернак и другие). Образ Богородицы во внутренней форме литературного произведения (М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, М. Горький, М.А. Булгаков и другие).
Тема 15. Новозаветные иконописные образы в русской литературе
Парафразирование иконописного образа Спасителя в русской литературе XVIII – начала XX веков (Г.Р. Державин, С.С. Бобров, А.С. Пушкин, А.В. Кольцов, А.Н. Апухтин, И.А. Бунин, М.А. Волошин и другие). Словесный образ иконы и особенности поэтического слога. Литературные образы Богородицы и иконописная традиция (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.А. Волошин, И.С. Шмелев и другие). Образы архангелов, ангелов и святых на иконе и в литературном тексте (Ф.М. Достоевский, И.А. Бунин, И.С. Шмелев и другие).
Тема 16. Литургические образы в русской литературе
Божественная литургия как сердцевина христианского мировоззрения и освященное Православной традицией художественное произведение. Святоотеческое толкование ее символики. Литургические образы в светском искусстве. "Размышления о Божественной литургии" Н.В. Гоголя. Литургические образы в русской поэзии и прозе (Ф.Н. Глинка, А.С. Пушкин, В.К. Кюхельбекер, А.С. Хомяков, М. Горький, И.А. Бунин, И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев и другие). Особенности и функции литургического художественного синтеза.
Тема 17. Апокалипсис в изображении русских поэтов и писателей
Православная традиция комментирования Апокалипсиса. Древнерусские лицевые Апокалипсисы. Тема Страшного Суда в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский и другие). Эсхатологическая тематика и апокалиптическая образность в русской литературе рубежа XIX – XX веков (Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, А. Белый, И.С. Шмелев, В. Хлебников, С.А. Есенин, М.А. Булгаков и другие). Функционирование апокалиптической образности в индивидуальных стилях и культурных эпохах.
Тема 18. Библейские образы в русской литературе конца XX – начала XXI веков
Библейская образность в произведениях Л.Н. Леонова, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, Ю.П. Кузнецова и других. Мистериальное содержание и нравственно-религиозная проблематика. Песнопения иеромонаха Романа: традиции православного богослужебного творчества, древнерусской литературы и злободневность. Проза М. Кравцовой, Е. Потехиной, Н. Блохина и других. Традиции рождественского и пасхального рассказа. Художественная литература православных периодических изданий. Православная литература в Internet.
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Роль библейской образности в религиозно-философской поэзии Г.Р. Державина.
2. Функции ветхозаветной образности в творчестве поэтов-декабристов.
3. Способы портретирования "библейского стиля" в произведениях А.С. Пушкина.
4. Литературное переосмысление христианской молитвы в лирике А.С. Пушкина.
5. Авторская позиция М.Ю. Лермонтова в его литературном воплощении демонической темы.
6. Христианское "любомудрие" в поэтических произведениях Ф.И. Тютчева.
7. Библейский контекст "Легенды о Великом инквизиторе" Ф.М. Достоевского.
8. Библейское слово в произведениях Н.С. Лескова.
9. Христианское и литургическое во внутренней форме произведений М. Горького ("Фома Гордеев", "Трое", "Исповедь", "Мать").
10. Апокалиптическая образность в произведениях И.А. Бунина.
11. Повесть А.И. Куприна "Суламифь": библейская книга "Песнь песней" во внутренней форме произведения.
12. Своеобразие трактовки "вечного образа" Фауста в повести А.И. Куприна "Звезда Соломона": роль христианской традиции.
13. Библейская и литургическая образность в формировании лирического героя В.В. Маяковского.
14. Библейские образы в книге М.А. Волошина "Неопалимая Купина": художественное осмысление темы революции и Гражданской войны.
15. Христианский миф и апокриф в стиле С.А. Есенина.
16. "Река времен" Б.К. Зайцева: творческий диалог и библейской книгой Екклезиаста и лирикой Г.Р. Державина.
17. Библейская и литургическая образность в произведениях И.С. Шмелева ("Лето Господне", "Пути Небесные").
18. Мистериальность романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита".
19. Библейская образность в современной русской литературе: искусственность, искусство и безыскусность.
Список художественных изданий
1. Аверинцев С.С. Стихи духовные. Киев, 2001.
2. Библия и русская литература. Хрестоматия. СПб., 1995.
3. Библейский альбом Гюстава Доре. М., 1991.
4. Бог и человек в русской классической поэзии XVIII–XX вв. /Сост. Галютин Д.Д. СПб., 1997.
5. Василий, иеромонах. Я создан Божественным словом. М., 2002.
6. Ветка Палестины. Стихи русских поэтов об Иерусалиме и Палестине. М., 1993.
7. Ветхий завет в русской поэзии XVII – ХХ веков. М., 1996.
8. Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 1992.
9. Голгофа. Библейские мотивы в русской поэзии. М., 2001.
10. Голубиная книга: русские народные духовные стихи XI–XIX вв. М., 1991.
11. Державин Г.Р. Духовные оды. М., 1993.
12. Карольсфельд Ю.Ш., фон. Библия в иллюстрациях. Гравюры на дереве. Корнталь, 2002.
13. Молитва поэта. Сборник. Псков, 1999.
14. Пророк. Библейские мотивы в русской поэзии. М., 2001.
15. Псалтирь в русской поэзии XVII – ХХ веков. М., 1995.
16. Роман, иеромонах. Избранное. Минск, 1995.
17. Русская стихотворная "молитва" XIX века. Антология. Томск, 2000.
18. Святая лампада. Стихи. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2000.
19. Святая Русь. Сборник стихов. М., 2001.
20. Слово и Дух. Антология русской духовной поэзии (X–XX вв.). Минск, 2003.
21. Христос в русской поэзии XVII – ХХ веков. М., 2001.
22. Час молитвы. Библейские мотивы в русской поэзии. М., 2001.
Список литературы
1. Библия (любое издание синодального перевода).
2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 2004.
3. Алипий (Гаманович), иеромонах. Грамматика церковнославянского языка. М., 1991.
4. Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства. Челябинск, 2000.
5. Библейская энциклопедия. М., 1992.
6. Барышникова И.Ю. Стиль лирики иеромонаха Романа. Дисс. … кандидата филологических наук. М., 2006.
7. Бобков К.В., Шевцов Е.В. Символ и духовный опыт православия. М., 1996.
8. Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. СПб., 2001.
9. Васильев Б.А. Духовный путь Пушкина. М., 1994.
10. Васильев С.А. О незамеченном библейском источнике поэмы М.Ю. Лермонтова "Демон" // Филологические науки. 2005. № 3.
11. Васильев С.А. Традиции литургической поэзии и древнерусской литературы в поэме В. Хлебникова "Ладомир" // Творчество В. Хлебникова и русская литература. Астрахань, 2005.
12. Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Том XXXVIII. Л., 1985.
13. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
14. Волошин М.А. История моей души. М., 2002.
15. Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. Рязань, 2002.
16. Галанина О.Е. Духовный реализм И. Шмелева: лейтмотив в структуре романа "Пути небесные". Нижний Новгород, 2004.
17. Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной литургии. Киев, 2002.
18. Гоголь Н.В. и Православие. М., 2004.
19. Гончарова Н.Н. Поэтика новозаветной притчи: опыт понимания. М., 2005.
20. Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. М., 1992.
21. Дьяченко Г., протоиерей. Полный церковнославянский словарь. М., 1993.
22. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ее икон. Ярославль, 2001.
23. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии. Литургика. М., 1996.
24. Грачева А.М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000.
25. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Т. 1–6. М., 2001-2005.
26. Евангельский текст в русской литературе XVIII–XX веков. Вып. 1-4. Петрозаводск, 1994-2005.
27. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2005.
28. Закон Божий. Jordanville. N. Y., 1987.
29. Занковская Л.В. Характерные черты стиля Сергея Есенина // Литература в школе. 2003. № 10; 2004. № 1.
30. Зверев В.П. Творчество Ф.Н. Глинки в контексте православной традиции русской литературы первой половины XIX века. Дисс. … доктора филологических наук. М., 2002.
31. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Христианский пастырь и христианин-художник. // Троицкое слово. 1990. № 6.
32. Иерусалим в русской культуре. М., 1994.
33. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 2002.
34. Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин. Ремизов. Шмелев. М., 1991.
35. Ильюнина Л.А. Искусство и молитва (По материалам наследия старца Софрония (Сахарова). // Русская литература. 1995. № 1.
36. Карпенко Г.Ю. Творчество И.А. Бунина и религиозное сознание рубежа веков. Самара, 2005.
37. Киприан (Керн), архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология. М., 2000.
38. Котельников В.А. Язык церкви и язык литературы. // Русская литература. 1995. № 1.
39. Киселева Л.А. Христианско-иконографический аспект изучения поэтики Сергея Есенина // Есенин академический: актуальные проблемы научного издания. Есенинский сборник. Выпуск 2. М., 1995.
40. Краткий церковно-богослужебный словарь. М., 1997.
41. Кураев А. Библия в школьной хрестоматии. М., 1995.
42. Кураев А. Школьное богословие. Книга для учителей и родителей. М., 2005.
43. Лебедева С.Н. Проблема национального характера в литературе русского Зарубежья первой волны: На материале книги Б. Зайцева "Преподобный Сергий Радонежский". Ч. 1. Тольятти, 2005.
44. Лепахин В. Икона в русской художественной литературе. М., 2002.
45. Лепахин В. Образ иконописца в русской литературе XI–XX веков. М., 2005.
46. Лосев А.Ф. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995.
47. Луцевич Л.Ф. Псалтырь в литературе: В 3 ч. Кишинев, 2000.
48. Луцевич Л.Ф. Псалтырь в русской поэзии. СПб., 2002.
49. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского Зарубежья. Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев. СПб., 2003.
50. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М., 1999.
51. Минералов Ю.И. Филология и православное богословие о силе слова // www.mineralov.ru .
52. Минералова И.Г. Повесть И.С. Шмелева "Неупиваемая чаша": стиль и внутренняя форма // Литература в школе. 2003. №2.
53. Минералова И.Г. Русская литература серебряного века (Поэтика сим¬волизма). М., 2003.
54. Мочульский К.В. Александр Блок. Андрей Белый. Валерий Брюсов. М., 1997.
55. Мурьянов М.Ф. Гимнография Киевской Руси. М., 2003.
56. Мурьянов М.Ф. Пушкин и Песнь песней // Мурьянов М.Ф. Пушкин и Германия. М., 1999.
57. Николаева С.Ю. Пасхальный текст в русской литературе XIX века. М.; Ярославль, 2004.
58. Пасхальные чтения. Гуманитарные науки и православная культура. Вып. 1–4. М., 2003–2006.
59. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 2000.
60. Православная энциклопедия (издание продолжается).
61. Православный богослужебный сборник. М., 1991.
62. Преподобный Серафим Саровский и русская литература. М., 2004.
63. Роман Н. Леонова "Пирамида". Проблема мирооправдания. СПб., 2004.
64. Русская литература и религия. Новосибирск, 1997.
65. Русская литература XIX века и христианство. М., 1997.
66. Савва (Остапенко), схиигумен. О Божественной литургии. СПб., 2004.
67. Святоотеческие традиции в русской литературе. Ч. 1. Омск, 2005.
68. Семенова Е.В. Система жанров русской духовной поэзии XVIII – начала XIX вв. М., 2001.
69. Семыкина Е.Н. Духовные векторы русской прозы и творческая эволюция В.Н. Крупина. Белгород, 2004.
70. Толковая Библия. Стокгольм, 1987.
71. Третьякова О.Г. Стилевые традиции святочного и пасхального жанра в русской прозе рубежа XIX–XX вв. Дисс. … кандидата филологических наук. М.,2001.
72. Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам) М., 1991.
73. Федченков Вениамин, митрополит. На рубеже двух эпох. М., 1994.
74. Философия русского религиозного искусства XVI–XX вв. Антология. М., 1993.
75. Флоренский П.А., священник. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи). М., 2004.
76. Ходанов М, священник. Спасите наши души! О христианском осмыслении поэзии В. Высоцкого, И. Талькова, А. Галича, Б. Окуджавы. М., 2000.
77. Христианство и мир: Материалы Всероссийской научно-практической конференции "Христианство 2000". Самара, 2000-2001.
78. Христианство и русская литература. Вып. 1-4. СПб., 1994-2002.
79. Худошин А. Искусство и православие. М., 2004.
80. Шмеман Александр, протоиерей. Литургия и жизнь: христианское образование через литургический опыт. М., 2003.
81. Юрьева И.Ю. Пушкин и христианство. М., 1999.
Материально-техническое обеспечение курса
Для обеспечения данного курса необходимо использование мультимедийных средств. Например, CD-ROM: "Библейские сюжеты в искусстве", "Православная икона", "Русская литература от Нестора до Маяковского" и другие.
© Все права защищены
Иов — один из героев Ветхого Завета (Книга Иова). Праведный, справедливый, богобоязненный, Иов был, по соизволению Господа, искушаем сатаной. Лишенный богатства, заболевший проказой и отданный на поругание, Иов остался предан Богу, продолжал петь ему хвалу. В богословской традиции славится прежде всего долготерпение Иова («Господь дал, Господь взял»); в том же духе воспринимают Иова странник Макар Долгорукий («Подросток»), старец Зосима («Братья Карамазовы»). От Кьеркегора к Л. Шестову сложилась другая трактовка Книги Иова: внимание приковано к отчаянию, дерзанию, резким вопрошаниям Иова, его «диспуту» с Богом (так воспринимает его Иван Карамазов). Свое отношение к Книге Иова писатель выразил в письме А.Г. Достоевской от 10 (22) июля 1875 г.: “Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг <...> Эта книга <...> странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда еще почти младенцем!» (29 2 ; 43). С Книгой Иова Достоевский познакомился по любимой в их семье книге «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового Завета». Иова можно считать одним из «вечных» библейских образов позднего Достоевского. Отзвуки Книги Иова звучат в исповеди Мармеладова и в эпилоге «Преступления и наказания», судьба Иова находилась в сфере внимания Достоевского в период работы над романами «Подросток», «Братья Карамазовы», о нем размышляет Макар Долгорукий, Иван Карамазов, старец Зосима. Особенно полнозвучно тема Иова звучит в последнем романе Достоевского. К Книге Иова восходит одна из сквозных религиозно-философских проблем Достоевского: страдания человеческие и присутствие Бога в страдающем мире (вопросы теодицеи). В русской литературе тема Иова была начата Аввакумом в его Житии, иначе, в духе раннего русского Просвещения, осмыслена Ломоносовым («Ода, выбранная из Иова»). Книга Иова почиталась русскими (Ф. Глинка) и европейскими масонами (Я. Юнг, Сен-Мартен). Связь Достоевского с русской традицией художественного осмысления этой Книги пока не ясна. Из европейских же своих предшественников Достоевский учитывал опыт Гете: в Прологе к «Фаусту» воссоздана ситуация экспозиции Книги Иова. Через гетевского Фауста эта экспозиция вариативно повторилась в «Братьях Карамазовых», где разным героям с санкции высшего существа дается право на экспериментальную проверку какой-нибудь безбожной, бесчеловечной идеи.
Тема Иова, по мнению Ю.М. Лотмана, начинает традицию изображения «возмутившегося человека». В ряд подобных героев, генетически восходящих к библейской книге, можно включить Раскольникова, Ипполита Терентьева, Кириллова, Версилова, Ивана Карамазова. До недавнего времени тема Иова в творчестве Достоевского была скорее констатирована, нежели исследована. Ее разработка началась в последние годы. Поставленная и частично решенная применительно к роману «Братья Карамазовы», она пока не тронута относительно других романов Достоевского, в которых она присутствует в латентном виде. Целостное прочтение этой темы — дело будущего.
Ермилова Г.Г.
Вопрос взаимоотношения искусства и религии сейчас возник с новой остротой. Непримиримость двух сторон удивляет и даже порой забавляет. Авангардные художники презирают религиозную “мораль”, отменяют все нравственные критерии, еще раз декларируют “искусство для искусства” и даже более того, не стесняются провозглашать “искусство ради денег”. Охотно эпатируют публику.
С другой стороны, люди церковные грешат ограниченностью, невежеством и каким-то лжеаскетизмом. Подчас их “потолок” в живописи - мистический реализм Нестерова, а иконопись рассматривается как последнее слово в изобразительном искусстве. И к литературе апологеты “православного подхода” предъявляют весьма строгие требования, по сути превращающие ее в плохие детские книжки из серии “Что такое хорошо и что такое плохо”. Культура отождествляется с религией, ее догматикой и аскетикой. Фактически это попытка заменить эстетику, историю искусства и поэтику катехизисом и Добротолюбием.
Великий богослов В. Н. Лосский считал, что искусство произошло от желания падшего человека “забыть Бога”. Лосский называет потомков Каина “первыми горожанами”, “изобретателями техники и искусства”. “Люди стараются забыть Бога <…> или же заменить Его праздником искусства”. Искусство, считает Лосский, “это - молитва, не доходящая никуда, потому что она не обращена к Богу. Порождаемая искусством красота замыкается сама в себе и своей магией приковывает к себе человека. Эти изобретения человеческого духа полагают начало культуре как культу некоей абстракции, в которой нет Того Присутствующего, к Которому должен быть обращен всякий культ” . Но красота, именно та, что “своей магией приковывает к себе человека”, это отблеск красоты Божественной. Потребность человека изобретать и творить есть проявление образа Божьего, ведь Бог - Сам великий Изобретатель и Творец.
Занимаясь переводом одного модернистского произведения, я встретила любопытную аллюзию на книгу Иова. Чтобы уяснить смысл сравнения, я принялась перечитывать из “Иова” отдельные моменты и неожиданно для себя обнаружила, что в этой книге Ветхого Завета содержится удивительная разгадка, ключ к тайне, что такое искусство и какова природа творческого дерзновения!
Обычное понимание книги Иова таково: Бог отдает Своего праведника на произвол сатане, чтобы доказать ему, что он, Иов, “человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла”, является таковым “не корысти ради”. В двух словах, история Иова - испытание на верность. Но такое понимание всегда являлось камнем преткновения для многих верующих, либо историю эту пытались завуалировать как условность. К тому же она казалась еще и просто бессмысленной: в конце, как вы помните, Иову является Бог и говорит с ним о… левиафане. Однако то, что Бог испытывает Иова, остается бесспорным, только испытание это - совершенно особое.
Уже в первых главах из речей Иова явствует, что он не очень-то утешался благами, и не так уж “радовался жизни”. На протяжении всей книги Иов спорит с Богом, обвиняет Его, проявляет неслыханные дерзость и упрямство. Все эти споры Иова с Творцом, его понимание праведности как богоподобия, рассуждения о мудрости и левиафан в конце - все это вдруг связалось воедино и представилось сущностной темой искусства.
Особо следует отметить тот факт, что эта книга Ветхого Завета всегда была благодатным пастбищем для мировой художественной литературы, причем подчас литературные “басни” проливают больший свет на таинственный смысл этой истории, чем интерпретации библеистики. Самюэль Беккет даже придумал слово Jobpath.
И все это неспроста.
Художник и поэт Уильям Блейк одним из первых заподозрил в Иове своего собрата. Он сочинил аллегорическую поэму с одноименным названием, где Иов воплощает образ художника, универсальной творческой личности. Пребывая в духовном оцепенении и практикуя формальное послушание Богу Отцу (в поэме Блейка олицетворяющему официальную англиканскую церковь), Иов попрал законы творчества и божественного вдохновения, за что и пострадал.
Роман американского писателя Германа Мелвилла также имеет непосредственную связь с книгой Иова. “А кто же составил первое описание нашего левиафана? Кто, как не сам могучий Иов?”. На 600 страницах рассказывается о безумной погоне за белым китом (Моби Диком). Капитан Ахав (аллюзия на царя Ахава, см. 3 Цар 16:29) желает сразиться с ним и прикончить его безо всякой видимой цели. Один из героев подозревает, что цель капитана - месть, которую он называет “богохульной”. Измаил (молодой матрос, от чьего лица ведется повествование) ставит китобойное ремесло выше военной доблести, “ибо что такое доступные разуму ужасы человеческие в сравнении с непостижимыми Божьими ужасами и чудесами!” . Образ белого кита является сложным синкретическим символом.
Существует немало других произведений, прямо или косвенно следующих той же “тропой”. Условно их можно разделить на два типа: одни касаются права человека на познание (стяжание мудрости), его творческого богоподобия, другие - вопросов мироустройства, то есть идут по двум направлениям - “творческому” и “юридическому”. К последнему, например, можно отнести произведения Кафки и Достоевского. Такое внимание художественной литературы к теме Иова показывает, насколько эта книга Ветхого Завета была важна для поэтического цеха и будоражила умы творческой братии. Интересно понять, почему это так.
Книга Иова по своей композиции напоминает драматическое произведение. Содержание ее раскрывается в форме диалогов. Действующие лица этой драмы - Иов, его друзья (Елифаз Феманитянин, Вилдад Савхеянин и Софар Наамитянин), а также Елиуй Вузитянин. Особое место отводится Богу и сатане. Вся книга написана стихами, за исключением пролога (2 главы), повествующего о том, кто такой Иов, каково его положение, что задумал о нем Бог, и эпилога.
Об Иове говорится, что он богат, а также что он - праведник. При этом не сказано, чем занимался Иов, чем он так прославился: И был человек этот знаменитее всех сынов Востока (1:3). Был ли он царь, мудрец, пророк, поэт? Далее описывается собрание у Бога, где присутствуют сыны Божии и сатана. Бог обращает внимание сатаны на Своего праведника Иова, упоминая его исключительные качества: нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла (1:8).
Сатана в этом тексте не есть имя собственное; смысл этого слова в древнееврейском - “противник” или “обвинитель”, “прокурор”. По логике вещей прокурору вверяется список пороков, а не добродетелей. Но Божественная логика идет своим путем и раскрывается постепенно по мере повествования. Сатана отвечает: Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? (1:9–10). У сатаны есть основания так считать: Иов приносил жертву Богу из страха - возносил всесожжения по числу своих детей, опасаясь, что его сыновья во время пиршеств в сердце своем похулили Бога: Так делал Иов во все такие дни (1:5). Этот момент показывает меру соотнесенности благочестия и благополучия. У древних семитов они находились в прямой зависимости: чем благочестивее человек, тем изобильнее блага. Сатана говорит Богу: Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, - благословит ли он Тебя? (1:11). Слова эти странны: как прикосновение Божие может быть пагубным? О чем просит сатана Бога? Хочется в связи с этими вопросами выстроить некий семантический ряд: прикосновение Божие - бедро Иакова - увечье - благословение - печать Бога - печать вечности . Этот ряд имеет прямое отношение к избранничеству , которое никогда не вязалось с понятием личного благополучия.
Бог отдает все блага Иова в руки сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей (1:12). Что это? Взаимоотношения Судьи и прокурора, когда “делу дается ход”? Такое понимание кажется необыкновенно жестоким, если вспомнить, что Иову вменяются добродетели, а не пороки. Напрашивается предположение, что все происходящее - это испытание, и что сатана - “на службе” у Бога. В Библии есть немало примеров, когда Бог, призывая праведников (и не только праведников, но и грешников), словно творит насилие: гонится за ними повсюду, вкладывает в их уста не свойственные им речи, меняет их жизнь. Но нигде, за исключением грехопадения и искушений Иисуса Христа, не фигурирует так однозначно сатана. Видимо, избранничество Иова - совершенно особое.
Однако вернемся к дальнейшим событиям. Сыновья и дочери Иова пировали у своего первородного брата, когда вдруг разразились всевозможные бедствия и погибло буквально все - сами дети, дома, скот, пастухи. Видимой причиной их гибели послужили и ужасные явления природы (ветер от пустыни, огонь с небес), и разбойные племена. Иов разодрал верхнюю одежду и сказал: Господь дал, Господь и взял <…> да будет имя Господне благословенно! (1:21). Первое испытание Иов выдержал. Блага уничтожены, он остался праведником, не поддался искушению. Но вновь собираются сыны Божии и сатана, снова Бог обращает внимание сатаны на Иова, который все так же тверд в своей непорочности.
Кожу за кожу (раздирание одежды - внешнее проявление горя - Е. Г .), - отвечает сатана, - а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, - благословит ли он Тебя? (2:4–5). Плоть и кость имеют в Библии сакральное значение, поражение кости - это приближение к смерти, к распаду, к небытию. Бог буквально испытывает Иова дыханием смерти. Что за праведность, которую нужно так испытывать? Видимо, что-то есть в Иове такое, что требует испытания смертью.
То, что это - не эксперимент на верноподданичество, который Бог ставит над человеком, совершенно очевидно. Это можно продемонстрировать на примере разговора Иова с женой. Иов сидит в пепле и скоблит свои струпья черепицей, и жена говорит ему: Ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри (2:9). Окружающие воспринимают непорочность Иова как нечто поверхностное, нечто ограждающее от зла, что-то вроде мелового круга. Раз Бог так поступил с человеком, выказывающим Ему послушание и лояльность, Он достоин хулы. Иов отвечает жене: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? (2:10). Поистине твердокаменность Иова не знает границ! Во-первых, как “злое” может быть от Бога? В этой фразе уже содержится противоречие и обвинение. Во-вторых, Иов - “человек, удаляющийся от зла” - не просто принимает вызов (согласен страдать), но принимает зло . Иов словно знает, в чем испытывает его Бог: Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне (3:25). Испытание, которое Бог посылает Иову, было им самим востребовано, может быть бессознательно, но воплощение его чаяний взывало не о всесожжениях, а об иных жертвах. Утрата имущества и близких - лишь первый шаг на этом пути, который он, по сути, сам себе избрал. Фраза “Бог дал, Бог взял” - не просто демонстрация смирения, но твердость воли следовать этим путем до конца.
Три друга Иова
Драма развивается далее, смысл происходящего проясняется в спорах Иова с друзьями. Характеры этих персонажей очень четко обрисованы и ни в коей мере не являются условными. Друзья искренне сочувствуют Иову, они разодрали свои верхние одежды и зарыдали, и семь дней сидели молча, ибо видели, что страдание его весьма велико (2:13). Что же сказал Иов, каковы были его первые слова после семидневного молчания? Он не благословляет Бога, как в первый раз, а проклинает день, в который родился, и ночь, в которую был зачат. Далее (3:20–26) он выражает свои претензии: На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? (3:23). Главное обвинение Богу: допустив смертность человека, Он сделал его жизнь бессмысленной: На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее? (3:20–21). “Огорченные душою” - так говорят о людях с чуткими, чувствительными душами; более всего к ним относятся правдоискатели. Они “ждут смерти”, ибо их печалит тленность всего земного, земной красоты и любви. Божий мир их не радует. Иов плачет не о себе, а о человеке, “которого путь закрыт”. Друзья же утешают его, как провинившегося ребенка, а жалобы его воспринимают как малодушный плач.
Праведность
Но Он знает путь мой; пусть испытает меня - выйду, как золото.
Первая речь Елифаза. Главы 4, 5
Начинает утешать Иова Елифаз, он самый уважаемый из трех старцев. Елифаз считает, что Иов в чем-то провинился и призывает его покаяться: Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай (5:17). И тогда Бог простит грех и узнаешь, что шатер твой в безопасности <…> и увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле и войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время (5:24–26).
Ответ Иова. Главы 6, 7
Елифаз, утешая Иова, только раздражает его. Иов честен сам с собой: он - праведник. Вы придумываете речи для обличения? На ветер пускаете слова ваши (6:26). Елифаз не понимает сути происходящего. Его слова - все равно, что “пища без соли” . Иов воспринимает свои страдания как посещение Божие: стрелы Вседержителя во мне <…> ужасы Божии ополчились против меня (6:4). Что значат эти слова? Суть бунта раскрывается по мере повествования.
Елифаз, называя людей храминами из брения , сказал: Не погибают ли с ними и достоинства их? (4:19,21). С этим не может смириться Иов. Праведность в его понимании отличается от понимания ветхозаветного.
Праведник не значит “безгрешный”, и уж тем более праведность не означает пожизненную “правость”, гарантированный, как считает Елифаз, союз с камнями полевыми (см. 5:23). Но праведность со счетов не скинешь. По разумению Иова, праведность - это возможность богообщения и залог бессмертия, а не временного благополучия.
Находясь на пороге смерти (его оплакивали семь дней, как покойника), Иов безутешен. О том, чтобы вернуть утраченное, он не помышляет (ведь мертвых не воскресишь): душа моя желает лучше прекращения дыхания <…> нежели сбережения костей моих (7:15). Он ужасается тому, что праведник приговорен к той же участи, что и грешник! Иов так близок к небытию, что размышлять о “наказаниях Вседержителевых” ему не время, ему бы сразу знать, на что надеяться: Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? (6:11).
Иов рассуждает не только о себе, но о человеке вообще . Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? (7:1). С одной стороны, человек - “наемник”, “прах”, жизнь его - “дуновение”, с другой стороны, Бог неотступно бдит каждый его шаг. Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? (7:17–18). Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу? (7:12). Слова о морском чудовище (левиафане) заслуживают особого внимания, так как именно о нем говорит Бог в конце книги. В Священном Писании, в том числе и в книге Иова, сказано, что Бог “положил морю предел”, взял его под стражу. Море - неуправляемая стихия, а левиафан - творение, готовое попрать Самого Творца. Символы непокорности, гордыни, величия . Слова Иова о том, что он - не “море”, не “морское чудовище”, есть в некотором роде самооправдание и саморазоблачение. В них бесспорно содержится определенное лукавство, ведь по сути Иов претендует даже на большее, нежели разбушевавшаяся стихия, его притязание - вечность: Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета (7:16), - говорит он Богу.
Рассуждения Иова о грехе носят явно онтологический характер: Зачем Ты поставил меня противником Себе <…> И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? (7:20–21). Поскольку речь идет о вечности, а не о временном облегчении, и к тому же, по словам Самого Бога, Иов - человек праведный, “грех” и “беззаконие” - не проступки и провинности, “вольные и невольные”, им соделанные (что Ты ищешь порока во мне <…> хотя знаешь, что я не беззаконник - 10:6–7). Иов страдать не отказывается, и даже просит, чтобы Бог Своей рукой сразил его (явная претензия на исключительность): это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений Святаго (6:10). Очевидно, речь идет о некоем “общечеловеческом” грехе, который и ему, Иову, праведнику, не оставляет надежды на Спасение.
Первая речь Вилдада. Глава 8
Вилдад - прост, прямолинеен, незамысловат. Об участи праведника и бессмертии не помышляет, но возмущается дерзкими словами Иова: Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? (8:3). Вилдад утверждает: просто так Господь не наказывает, Он заботится о Своих тварях как о растениях, Господь их питает, не дает раньше срока увянуть. Впрочем, Вилдад находит “виноватых”: Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их (8:4). Получается, что Иов пострадал “нечаянно”, так как Бог “не отвергает непорочного”: И если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою <…> И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много (8:6,7). По сути Вилдад богохульствует (невольно), ибо получается, что Бог слеп, небрежен и несправедлив.
Ответ Иова. Главы 9, 10
Какой смысл в чистоте, если Бог уже вынес приговор: Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответит Ему ни на одно из тысячи (9:2,3). В английской версии: “каксмертный может быть праведен перед Богом?” . Праведность и смертность - две вещи несовместные. Праведнику не может быть уготована та же участь, что и растению. Человек, “храмина из брения”, что бы ни содеял, - все распадается. А Господь - великий Творец, премудр сердцем и могущ силою; кто восставал против Него и оставался в покое? (9:4). Он делает великое, неисследимое и чудное без числа! (9:10) Кто скажет Ему: что Ты делаешь <…> пред Ним падут поборники гордыни (9:12,13). В древнееврейском тексте “поборники Рахаба”, то есть левиафаны - морские чудовища. Свое намерение изменить мироустройство Иов почитает за прение и восстание, и как эти слова вообще вяжутся с понятием праведности ? Не облекаются ли смыслом слова Бога “нет такого на земле” о праведнике Иове, обращенные к сатане? Не проясняется ли “Божественная логика”?
Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, кто сведет меня с Ним? (9:19). Ни в плане “творческом”, ни в плане “юридическом” проблема не решается. А если осужден я, зачем же напрасно томлюсь? (9:29) . Иов желает, чтобы Бог изменил закон, “аннулировал” смертный приговор праведнику. Но как возможно осуществить такое немыслимое желание? Хотя бы я омылся и снежною водою <…> то и тогда Ты погрузишь меня в грязь… (9:30–31). На суде нужен адвокат, ходатай, такова логика объективности: Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня; если я невинен, то Он признает меня виновным (9:20). “Несмываемый грех” - тот, который не смоется кровью жертвенных животных, тот, который утянет в шеол и беззаконного и праведного, тот, который всякую вещь и деяние превращает в ничто. О грехе Адама вопит Иов. Он отказывается верить в такую “объективность”, в своем отчаянье он приближается к неистовому карамазовскому: “мира Твоего не приемлю!”. Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмевается <…> Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же? (9:23–24) .
Кто примирит человека с Богом? Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас (9:33), - сокрушается Иов. Брешь зияет в мироустройстве! Что-то неправильно, что-то не так! Словно от имени Адама говорит Иов: Не Ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня <…> жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой? Но и то скрывал Ты в сердце Своем, - знаю, что это было у Тебя, - что если я согрешу, Ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания (10:11–14). Грех Адама - нарушение единственной заповеди не вкушать от древа познания добра и зла, - вверг человека в неисчислимые бедствия, исказилась сама человеческая природа, смерть разлилась по миру. Но древо не было ошибкой или просчетом в мироустройстве. Оно лишь знаменовало божественный дар - человеческую свободу. Ведь именно право выбора означает свободу и ничто иное. Гадать, что было бы, сделай Адам другой выбор, невозможно. Возможно лишь предположить, что каждому плоду - свое время, и Бог позаботился бы о том, чтобы Его дети смогли когда-нибудь их отведать. Сатана солгал, когда сказал “будете, как боги, знающие добро и зло”. Познание без Бога, без Его благословения, обернулось мраком и смертью. И нельзя вменить “бывшее яко не бывшее”.
К закону искали доступ многие литературные герои. Не примером ли из Иова вдохновлен был Кафка? Его герой постоянно находится под стражей, под неусыпным оком какого-то непонятного Суда, воплощением которого являются страшные учреждения , бессмысленные институты власти , чьим беззаконным произволом вершатся судьбы людей, и на ход процесса невозможно повлиять. В романе “Процесс” кульминацией действия (совершенно бессмысленных тасканий по судам и поисков адвоката) является притча о человеке, который захотел получить доступ к закону с тем, чтобы добиться его “пересмотра”, но так и не смог.
Первая речь Софара. Глава 11
Софар, в отличие от предыдущих утешителей, первый угадывает, что за дерзкими словами Иова о несовершенстве мира кроется посягательство на тайны премудрости. Иов желает постигнуть тайны мироздания! Он хочет изменить порядок вещей! Он претендует на то, что Бог заговорит с ним! Так как же мне ответить Ему? Подобрать слова мои для тяжбы с Ним? (9:14), - так говорил Иов .
Негодование Софара - выше всякой меры: Болтовня твоя заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и никто не посрамил тебя? (11:3) , обличение его граничит с насмешкой: Но если бы Бог возглаголал <…> к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести! (11:5,6). Вот премудрость по Софару! В переводе английской версии это место звучит так: “…чтобы Бог обличил бы тебя и открыл бы тебе тайны премудрости, ибо истинная премудрость имеет две стороны. Знай: Бог даже забыл некоторые из твоих грехов”. Софар судит о Божественной мудрости как об обличении. В отличие от Иова, ее дерзкого стяжателя, Софар не допытывается тайн, он констатирует, что мудрость Божия выше небес и глубже шеола, длиннее земли и шире моря: Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? (11:7). Бог велик и незачем “лезть, куда не следует”, - таково резюме в духе ислама, величие Аллаха - данность и нечего рассуждать, будь мудр житейскими истинами. Может быть, это имел в виду Софар, когда говорил, что у мудрости две стороны? Или он хотел сказать, что плоды познания бывают не только сладкими, но и горькими? Упрямство Иова ему кажется бессмысленным и опасным: безрассудный человек не станет мудрым, как не станет дикий осленок человеком (11:12) - изрекает он восточную мудрость.
Что касается прений по поводу закона, Софар и здесь руководствуется азиатским законопослушанием: Если Он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит Его? (11:10).
В заключение Софар призывает Иова “управить свое сердце”, то есть примириться, и тогда “будешь спокоен”.
Ответ Иова. Главы 12, 13, 14
Чем больше раздражаются друзья, тем нетерпимее становится Иов: Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость ! (12:2), - восклицает он. Его, праведника, чей дух хранило Божье попечение (см. 10:12), друзья обличают и поучают житейским истинам! О сулимом душевном спокойствии Иов говорит так: Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих (12:6). Они, “утешители”, “раздражающие Бога” своими “мудрыми” речами, словно владеют особым правом распоряжаться благами, “как бы Бога носят в руках своих”.
А то, что говорит Софар о творении, каждый и так знает: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? (12:7–9). В чем же мудрость?
Говорить о мудрости со знанием дела - прерогатива Иова: Посмешищем я стал для друга своего,который взывал к Богу, и которому Он отвечал <…> человек праведный, непорочный (12:4). Такие речи могут показаться нескромными. Но Иов утверждается в истине: приснилось ли ему, что Сам Бог отвечал ему и делился с ним премудростью?! Ему, праведнику, знаком язык богообщения. Именно так понимает Иов праведность: она есть дар святости, а не слепое законопослушание.
О Божественной мудрости, о творении Иов рассуждает с совершенно иным пафосом, нежели Софар. Бог делает, что хочет, творит “произвол”, хотя у Него премудрость и сила; Его совет и разум (12:13). Начинает Иов с того, что в руке Бога - душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти (12:10). Но… как бы ни были мудры старцы, Он “лишает их смысла”, как бы ни были велеречивы люди, Он отнимает у них язык, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути: ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные (12:24–25). Мудрость - не обличение, не “карательный орган”, но в ней имеется нечто непостижимое для человеков, “ощупью ходят они во тьме”. Бог покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет; открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную (12:21–22). Мудрость - запретный плод, ее стяжание ведет к смерти. Избранники - те, кто пытается отведать запретный плод и, вкушая его, хотят обрести бессмертие: Сколько знаете вы, знаю и я <…> Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом (13:2–3) . “Состязаться с Богом” или “оспорить Бога”, кажется, слова действительно безумные, но Иов отвечает за них: я буду говорить, что бы ни постигло меня (13:13). И это уже в оправдание мне, потому что безбожник не пойдет пред лицо Его! (13:16) . “Состязающийся с Богом” и есть праведник - не таков ли смысл этих слов? Безбожники не пойдут пред лицо Его, им нечего вопрошать у Бога и не о чем спорить с Ним. Такая неистовая праведность, горящая, как факел, суть которой - избранничество, а цель - богопознание и бессмертие, не страшна ли для человека? “Состязаться с Богом” - не помышление ли сатанинское? Многих литературных героев “тропа Иова” приводила к богоборчеству. Сладкими им казались слова похули Бога и умри . Но Иов помнит, что “злое” от Бога есть тяжкое наследие человеческой свободы, и не скрыться от него на земле. Как ребенок говорит он, что хотел бы “спрятаться в шеоле”, “пока не пройдет гнев” Господень. Но тут же спрашивает безнадежно: Но, когда умрет человек, то будет ли он опять жить? (14:13). Но гора падая разрушается, и скала сходит с места своего; вода стирает камни <…> так и надежду человека Ты уничтожаешь <…> изменяешь ему лице и отсылаешь его. В чести ли дети его - он не знает, унижены ли - он не замечает; но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает (14:18–22).
Доступ к закону
О, если б вопль мой дошел до Бога!
И препирался бы за мужа с Богом,
Как сын человеческий за друга своего.
Второй круг речей. “Разве ты первым…”
Первая речь Елифаза. Глава 15
Ты отложил страх и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых (15:4–5). В английской версии “язык кудесников, искусников, мудрецов”. Елифаз обижен: Что знаешь ты, чего бы не знали мы? <…> И седовласый и старец есть между нами (15:9–10). Он спрашивает Иова: разве ты первым человеком родился ? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Разве малость для тебя утешения Божии? (15:7,8,11). Грехопадение - дело давнего прошлого, Иов - не Адам, и незачем ему сокрушаться о потерянном рае: Что устремляешь против Бога дух твой <…> Что такое человек, чтоб быть ему чистым…? (15:13–14).
Ответ Иова Елифазу. Главы 16, 17
Негодование на друзей сменяется плачем, и стенанием, и мольбой к неведомому Заступнику: Вот на небесах Свидетель мой, и Заступник мой в вышних! Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! (16:19–21) . “Юридическое решение” Иова поражает наивностью и одновременно какой-то прозорливой рациональностью: не к кому взывать кроме Господа. Заступись, поручись Сам за меня пред Собою! иначе кто поручится за меня? (17:3). Иов словно поднимается еще на одну ступеньку в своем познании. Его ощущение пустоты, бреши в мироустройстве (“нет между нами посредника”) заполняется этими словами: “поручись Сам за меня пред Собою”.
Иов удивляется духовной слепоте своих друзей, их слепому благочестию. Если так пресыщены они временными “утешениями Божиими”, то на что надеются? На отдых в преисподней? Тогда гробу скажу: ты отец мой, червю: ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя? (17:14–15).
Вторая речь Вилдада. Глава 18
Вилдад - воинствующий обличитель, слова Иова его гневят. Его речь поражает своей сатирической окраской в том смысле, что, обличая Иова, он обличает сам себя и своих друзей. Ты считаешь нас за животных или безмозглых тупиц? Ты, кто терзаешься в своем гневе? (18:3–4) . Вилдад описывает ужасные бедствия, которые подстерегают беззаконного , то есть того, “кто не знает Бога”: съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов (18:13–14). Не отличаясь особым умом и проницательностью, Вилдад блестяще манипулирует расхожими аллегорическими образами. “Первенцем смерти” именовалась проказа, та самая болезнь, которая постигла Иова, - болезнь, имеющая действительно символическое значение, распад плоти, материи - верный признак смерти.
Ответ Иова. Глава 19
Праведный Иов угодил в “беззаконники”. Друзья легко меняют свое мнение о нем: раз Иов наказан, значит, он согрешил. Они никак не хотят понять, что его “грех” - не против людей, но “против” Бога: Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог ниспроверг меня и обложил меня Своею сетью. Вот я кричу: обида! и никто не слушает; вопию, и нет суда (19:4–7).
19 глава - кульминация “юридической” линии сюжета, в ней окончательно решается вопрос о “доступе к закону”. Иов, отчаявшись услышать слова сочувствия от друзей, взывает к Богу как к Искупителю: А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей! (19:25–27).
В истории христианской мысли эти слова всегда приводились как одно из ярчайших пророчеств о грядущем Спасителе. Посредник - Заступник - Искупитель - эти три имени обращает Иов к Богу по мере повествования. “Адвокат” и есть “искупитель”, он в таком деле должен заплатить сполна: умереть и воскреснуть. Среди смертных (даже праведников) Такого не сыщется. Бог “враждует” со Своим творением, потому что человек своим выбором все обратил к тлению и распаду, всякое сущее имеет две стороны. Сам человек не может восставить свою падшую природу, только Бог, обратившись к человеку, став человеком, может искупить первородный грех, может умереть и воскреснуть, может понести тяжкий дар свободы. “Почему бы Тебе не простить греха моего”, - эти легкомысленные слова словно выросли до проникновенного понимания, что невозможно вменить “бывшее яко не бывшее”, просто “простить грех” - значит совершить насилие над свободной личностью, уже сделавшей свой выбор (ведь свобода предполагает и ответственность). Для Бога нет ничего невозможного и “просто простить” - легко, но тогда был бы перечеркнут весь смысл свободного создания - человека. Но Бог может открыть путь к спасению, Сам исполнив закон.
Роль сатаны в книге Иова - совершенно особая, и при реализме библейского повествования она не сводима ни к какой аллегории (как у Блейка). Вовлечение в действие “обвинителя” говорит об особом испытании, о начале судебного дела, тем более что именно сатана был одним из участников грехопадения, можно сказать, “стоял у истоков познания” (искушение Адама и Евы). Как уже говорилось, в испытаниях Иисуса Христа тоже участвует сатана. Такое сравнение не уравнивает Иова и Христа, но указывает на одинаковость “дела” - исправить закон невозможно, не уплатив дань, невозможно “обойти” обвинителя, воскреснуть, не умерев. Зная чаянья “раба Своего Иова”, не праздно Бог вопрошал о нем сатану.
Осознавая свое избранничество (а не грех), Иов просит друзей о сочувствии: Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня (19:21). Иов говорит о Боге: Он преградил мне дорогу <…> совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей (19:8–9). Такие слова - “слава”, “венец” - понимались поэтами однозначно. Конечно, Иов не является “поэтом” в современном смысле этого слова, но в глубинном его смысле, он - поэт, царь, пророк, избранник (вспомните пушкинское стихотворение “Пророк”).
Участие сатаны в уделе избранника всегда ощущалось самими избранниками. При создании дивного творения, при вступлении в вечность словно чувствуется дыхание смерти. Испанский поэт Гарсия Лорка так понимал природу всякого творчества: “Любой человек - любой художник <…> взбирается по лестнице совершенства, борясь с бесом, не с ангелом и не с музой, а с бесом. Необходимо отметить это различие, без которого нельзя понять корни творчества”. «Известны пути для ищущих Бога: от изуверского отшельничества до тончайших приемов мистиков. И даже если нам придется воскликнуть голосом Исайи: “Воистину Ты Бог сокровенный” - в конце концов Господь пошлет ищущему огненные Свои стрелы». Сравните со словами Иова: Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня… (3:25). Ибо стрелы Вседержителя во мне … (6:4).
“Известно <…> что, он (бес), как толченое стекло, сжигает кровь; что он изматывает артиста; что он отвергает заученную, приятную сердцу геометрию; что он нарушает все стили; что он заставил Гойю, непревзойденного мастера серых и серебристо-розовых тонов в духе лучшей английской живописи, писать коленями и кулаками, размазывая безобразные краски цвета вара…”. “Великие артисты южной Испании, цыгане и андалузцы, знают, что невозможно выразить никакое чувство в песне, танце или игре, если не придет бес. Обманывая людей, они могут изобразить присутствие беса так же, как обманывают каждый день публику музыканты, художники и портные от литературы, никогда не знавшие беса. Но достаточно чуть-чуть приглядеться и стряхнуть с себя равнодушие, чтобы раскрыть обман и прогнать этих пошлых ремесленников” .
В наше время развелось немало этих псевдо-бесноватых, и если задать вопрос: “с чего беснуетесь вы столько”, то не получишь никакого ответа. Лорка же пишет о жертвенности в творчестве. Как происходит преображение материи, как получается чудо?
«Явление беса всегда означает ломку старых форм, неслыханную свежесть и полноту чувства, как будто раскрылась роза или совершилось чудо, - это вызывает почти религиозный восторг. У арабов явление беса в музыке, танце, песне приветствуется страстными выкриками: “Алла! Алла!” - “Бог! Бог!” Почти такими же, как на корриде: “Оле! Оле!” - и, быть может, это одно и то же. А в песнях южной Испании появление беса в песне встречают криком: “Жив Господь!”».
У Лорки “бес”, по-испански duende (что скорее значит “дух земли”), ассоциируется со смертью, то есть при всех коннотациях этого слова берется именно его основополагающий смысл, как и в книге Иова. “Я не хочу, чтобы вы спутали моего беса с теологическим бесом сомнения, в которого Лютер с вакхической страстью запустил чернильницей в Нюрнберге; или с католическим дьяволом - бездарным разрушителем”. “Испания во все времена одержима бесом, потому что Испания уже тысячу лет - страна музыки и танца, страна, где бес на заре выжимает лимоны, потому что эта страна смерти, страна, открытая смерти. Во всех странах смерть означает конец. Она приходит - и занавес падает. А в Испании нет. В Испании занавес только тогда и поднимается”. Сравните: И душа моя желает <…> лучше смерти, нежели сбережения костей моих (7:15).
Лорка и святость понимал как творчество: “Св. Тереза была мужественной победительницей беса - полная противоположность Филиппу Австрийскому , который жаждал найти ангела и музу в теологии, но оказался в плену у беса, холодно пылавшего в стенах Эскориала…” .
Роли сатаны никак не назовешь “положительной”, и у Лорки, несмотря на поэтичность слога, этого нет. Просто этот “персонаж” появляется тогда, когда одерживается еще одна победа над смертью - “как будто раскрылась роза или совершилось чудо” - родилось бессмертное творение.
Присутствие сатаны в книге Иова получило интересную интерпретацию в “Сборнике проповедей на ежедневные евангельские чтения” священника Вячеслава Резникова. «Вспомним Ветхозаветную книгу Иова, - пишет отец Вячеслав. - В самом ее начале с удивлением видим, как Бог кротко, поучительными примерами из жизни, наставляет… сатану, как будто еще надеясь его спасти! “Обратил ли ты внимание, - говорит Он, - на раба Моего Иова? Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла”» .
Странное “взаимодействие” Бога и сатаны, подобное взаимодействию судьи и прокурора, когда делу дается ход, возможно, направлено не только на Иова с целью испытать его, но еще и на сатану с целью научить его. Ведь Иов - человек, желающий “вкусить плод”, “быть как Бог”. Поступит ли он, словно Адам? Сумеет ли “удалиться от зла”? И сатана хотел быть как Бог, и вот ему вразумление.
Судить о подобных вещах трудно, однако хочется верить, что мысль эта - не просто домысел, ведь действительно сатане “преподан урок”. Урок духу изгнания и смерти о том, что мудрость - это страх Божий, а праведность - не условие временных благ. Что обожение (богообщение и стремление к бессмертию) и “быть как боги” - две разные вещи.
Глава кончается предостережением Иова своим друзьям, смысл которого таков: не спешите искать “корень зла” в тех, до кого коснулась рука Божья, так как и вы предстанете перед Его судом. “Корень зла” - точная метафора в этом контексте: избранники - те, кому случилось дотянутся до “корня зла”, но они уже не искушаемы тем, кто мечтал “быть как боги”, а призваны Самим Богом, ибо пришло их время вкусить плод, дабы “научить зло”.
Ответ Софара. Глава 20
Слова Иова об Искупителе не производят на Софара никакого впечатления. Он вслед за Вилдадом продолжает клеймить “беззаконных”, на иврите роша , что значит “злодей”. Поскольку говорит он о них применительно к Иову, то вслед за Вилдадом добавляет смысловые оттенки. Вилдад говорил: “беззаконный” и “тот, кто не знает Бога”. Софар говорит: “беззаконный” и “лицемер” (см. 20:5). Для Софара корень зла лежит на поверхности, или, говоря его же словами, “во рту беззаконного”, то есть Иова: Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим <…> то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его (20:12,14). Таким образом, слово “беззаконный” обретает новый смысл: это ненасытный стяжатель, лицемер, питающийся злом. В полноте изобилия будет тесно тем, кто “сосет змеиный яд” (20:22).
Ответ Иова. Глава 21
Не так уж и тесно беззаконникам в полноте изобилия, возражает Иов. И даже совсем не тесно, а привольно: Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо, выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры и веселятся при звуках свирели; проводят дни свои в счастьи и мгновенно нисходят в преисподнюю (21:10–13).
Люди, делающие зло, живут по своему “закону”, который многого от них не требует. Они соблюдают некие “правила игры” и счастливы.
На чем же зиждется их радость? Иов проницательно замечает: А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих (21:14). Без Бога - хорошо и спокойно, и дорога - прямая. Как Господь промышляет о таких людях, Иову неведомо: Скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его. - Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал (21:19). Но тут же осекается: Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? (21:22). Но счастье их не в их руках , - заключает Иов. - Совет нечестивых будь далек от меня! (21:16).
Если счастье, радость, и благоденствие дарованы людям, не желающим знать Бога, то другие умирают с душею огорченною, не вкусив добра (21:25). Как и в третьей главе, Иов говорит об особой категории людей (к которой относится и сам) - о богоискателях. “Огорченные душою” - люди, стремящиеся познать истину, к ним относятся в первую очередь поэты и святые. До Рождества Христова о святости было совершенно иное понятие, и только после Воскресения Спасителя мы говорим о святых людях и просим их предстательствовать за нас пред Богом. Лорка был, без сомнения, прав, когда мерил святых и поэтов одной мерой . Разве искусство, вечное и прекрасное, не предстательствует за всех и каждого пред Творцом, не взывает к бессмертию человечества? И как бы ни были симпатичны “добрые обыватели”, как бы ни были они благополучны, Иов именно их приравнивает к “злодеям”: Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомы с их наблюдениями , - спрашивает Иов друзей, - что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? (21:29). Почему же огорченные душою не вкусили добра, почему они “как соломинка, как плева, уносимая вихрем”, а “злодея” “провожают ко гробам и на его могиле ставят стражу”? Может быть, роскошные гробы и есть им награда?
Поэма о мудрости
Открывает глубокое из среды тьмы
и выводит на свет тень смертную;
умножает народы и истребляет их…
Иов о Боге, глава 12
Третий круг речей
Речь Елифаза. Глава 22
Если Иов говорит об “огорченных душою”, то Елифаз говорит о “разумных”: Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому (22:2). В английской версии - “мудрый”: даже и от мудрого какая польза Богу? Не так важны Господу мудрость и разум человеческие, сколь важно для Него покарать грешников, к коим и причисляется Иов. Елифаз прямо обличает его, приписывая ему всевозможные грехи: брал залоги от братьев, не подавал напиться “утомленному жаждою”, отбирал землю, вдов отсылал, сирот оставлял и т. д. Спрашивается, зачем же пришел Елифаз к Иову? Утешать такого злодея - не расписаться ли в собственном лицемерии?
Праведность и благочестие Иова, коими он так славился (и Бог тому свидетель), уже забыты, попраны, поставлены под сомнение. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли Ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? (22:3), - словно насмехаясь, спрашивает Елифаз. Удивительная расчетливость и практичность! Вслед за Софаром (гл. 11) Елифаз утверждает, что праведность - “дело житейское”. Схема, по которой развертывается его мысль, предполагает довольно примитивное мироустройство. Возможно, эта схема - вполне “рабочая”, жизненная, так считали, например, пуритане, понимавшие праведность вполне конкретно и весьма преуспевшие: “праведник” соблюдает закон, а Бог ему за это дает изобильные блага. “Разумный доставляет пользу себе самому”, причем пользу главным образом материальную. Не задумывается Елифаз, что люди любую “букву” могут исказить, и что помимо предписаний есть еще и законы любви. Он вспоминает о потопе, когда беззаконных смыла вода: Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им (22:19).
Елифаз советует Иову принять закон (прими из уст Его закон ), и тогда вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков - золото Офирское. И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лице твое (22:23–26).
Ответ Иова. Главы 23, 24
Но закон, с точки зрения Иова, скорее препятствует богообщению, нежели способствует. “Что за удовольствие Вседержителю”, что кто-то праведен? И что “за удовольствие” быть праведником, если и без Бога “все хорошо”, и конец - один?
Елифаз говорил: примешь закон, будет Вседержитель твоим золотом , то есть облагодетельствует, претворит реки в молоко и мед, и тогда исполнишь обеты твои (22:27), - то есть желания, намерения, в том числе и спасение “небезвинного”. Но Иов сам себя спасти не может, хотя от заповеди уст Его не отступал (23:12). Что касается метафоры с золотом, он ее переигрывает иначе: иду вперед - и нет Его, назад - и не нахожу Его <…> но Он знает путь мой; пусть испытает меня, - выйду, как золото (23:8,10). Иов просит об испытании, чтобы явить некое чистейшее, ценнейшее качество, потому что тогда праведник мог бы состязаться с Ним, - и я навсегда получил бы свободу от Судии моего (23:7). Качество это - “как золото”, как сокровище высочайшей пробы, - есть исключительная человеческая личность или святость (“праведник мог бы состязаться”), благодаря которой, говорит Иов, я узнал бы слова, какими Он ответит мне, и понял бы, что Он скажет мне (23:5) . Слово “состязаться” в русском языке довольно многозначно, на древнееврейском оно означает “оспорить дело”; в данном случае - оспорить закон, согласно которому удел человеческий - суета и смерть.
Речь Вилдада. Глава 25
Вилдад своей репликой завершает речи друзей Иова. Он еще раз констатирует, что невозможно человеку быть правым (то есть праведным - Е. Г. ) пред Богом, и как быть чистым рожденному женщиною? (25:4). Бог - выше Своего творения: Держава и страх у Него; Он творит мир на высотах Своих! (25:2). Хоть мир и творится на высотах, но обречен тлению.
Речи Иова. Главы 26–31
Какой совет подал ты немудрому <…> И какой дух говорил устами твоими? (см. 26:3,4) , - иронично восклицает Иов.
Для Иова быть правым (праведным) перед Богом - вопрос не только “юридический”, но вообще - о праве человека на познание, о праве человека на владение миром . Речи Иова преисполнены восхищением и одновременно какой-то ревностью к Творцу. Преисподняя обнажена пред Ним, и нет покрывала Аваддону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем (26:6–7). “Это единственное место в Библии, где имеется совпадающее с наукой представление о космосе”, - написано в комментарии к Иерусалимской Библии. Каков Иов!
Второй раз говорит Иов о творении. В 12-й главе он утверждал, что Божественная логика (мудрость) - вне логики человеческой, сейчас он рассуждает о сотворении мира до “всякой тверди”, начинает с воды и преисподней и кончает небесами. Таков размах его мысли, до таких глубин дошло его исследование:
Силой Своей укротил Он море
И разумом Своим сокрушил Рахаба.
От дыхания Его - ясность неба,
Рука Его пронзила бегущего змея (26:13).
Присутствие этого стиха в книге Иова очень важно . Этот отрывок - отголосок древнейшего космогонического мифа, “Песни о бунте моря” (о ней еще пойдет речь). Рахаб = Змей = Левиафан = Дракон - мифологический монстр первичного хаоса, а также большой красный дракон на небе из Апокалипсиса (Откр 12:3). Такое рассуждение о Творении в корне отличается от тех, что давались друзьями, например Софаром: Он превыше небес <…> глубже преисподней (гл. 11). Иов умудрен большим знанием, он углубляется в непостижимые космические истоки, словно пытаясь найти связь между свободой, познанием и смертью.
Иов жаждет премудрости: А гром могущества Его кто может уразуметь? (26:14). Тема стяжания мудрости (богоподобия) достигает своей кульминации в 28-й главе, содержание ее - притча о рудокопах.
Перед нами возникает удивительная картина совершенно непостижимой реальности. Библейский параллелизм - способ изложения, аргументации, вбирающий одновременно рассудочность и поэтичность, благодаря чему возникает особый реализм, формула которого проста, как дважды два четыре. Параллельные члены натягивают основу, на которую ложится прочная ткань - незыблемая истина, подобная славному гимну. В 28-й главе параллельные члены - это стези человека и Бога, уподобление человека Богу благодаря его способности творить и познавать, а также выявление Блага как конечной цели познания и творчества.
Начинает Иов с человека, с рудокопа: Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодезь в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей (28:3–4). То, что творит человек (рудокоп) - страшно и дивно: На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы; в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его; останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет (28:9–11). “Сокровенное” - камни земли, что залегают глубоко, “ниже хлебов”, они - “место сапфира, и в ней (в земле) песчинки золота”. Кроме человека, никто другой, ни хищная птица, ни гордые звери , не знают стези туда . Параллелизм словно загадывает загадку: что драгоценнее хлеба и на что покуситься может лишь человек?
Иов рассуждает о премудрости и знании. Рудокопы, устремляющиеся в недра земли за сокровищем, за премудростью, словно докапываются до корня того древа, которое - и благо, и зло; во глубине стигийских руд, на каком-то отрицательном этапе жизни, берет он свое начало, залегает в толщах хаоса. Но где премудрость обретается? и где место разума? - задается вопросом Иов. - Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых (28:12–13). Очевидно, цена мудрости - жизнь и смерть, познать - значит умереть и воскреснуть. Этот стих - поворотный сустав хиазма , от него начинается восхождение к истине. “Не оценивается она (премудрость) золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром”. Описать вещь непостижимую можно только апофатически, отрицая и то, и это: она - ни то и ни это. И если у сокровища источная жила - под землей, то у мудрости - не Шеол, не Аваддон. Но самая возможность такого сравнения, пусть с отрицательной частицей, все равно говорит об одном: мудрость не обретается на земле живых: Аваддон и смерть говорят: ушами нашими слышали мы слух о ней (28:22). Иов не устремляется к премудрости “на высоты”, но опускается “в глубины”, сам ход мысли обнаруживает догадку, что мир сотворен с какой-то “изнанкой”. Невольно вспоминаются слова Лорки о встрече с духом смерти и земли, каковая имеет место быть при явлении всякого бессмертного творения. Создать, обрести вечное можно только поправ ветхое, смертное. Шеол (небытие) - не есть “место” мудрости, но имеет к ней прямое отношение. “Сокровенное” надо вынести на свет. И сразу же, после Шеола и Аваддона, следует: Бог знает путь ее, и Он ведает место ее (28:23).
Слово путь предполагает некую цель, направленность. Иов понимает мудрость как Божественный замысел о творении; постичь мудрость возможно, не “вкушая зла”, но следуя неким путем: Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная мудрость, и удаление от зла - разум (28:24–28). Здесь в оригинале слова “человек” и “Господь” звучат как Адам и Адонай . Сам выбор этих имен говорит о том, что Иов обращается к истокам катастрофы, к грехопадению Адама, решившего вкусить от древа познания и стать “как боги, знающие добро и зло”. Иов, дивясь весу ветра и пути молнии громоносной, размышляет о замысле творения, о том, что делал с мудростью Господь, как Он ею “правил”, пока творил мир из ничего. А Он видел, явил, приготовил и испытал ее. Испытание предполагает вопросы: свободна ли была стихия? вечно ли было творение, бессмертно ли изначально? или оно должно было таковым соделаться? Для человека путь постижения один: страх Господень - премудрость, и удаление от зла - разум.
Что такое страх Божий и почему он - мудрость, а разум - удаление от зла? Они есть понятие о Благе, которое ставится во главу угла. На эту тему, именно в связи с дерзновенными устремлениями человека, с современными темпами развития цивилизации написана книга К. С. Льюиса “Человек отменяется”. В ней он показал с удивительной ясностью, как мудрость и разум оборачиваются мраком и безумием, если они находятся вне понятия о Благе, а Благо есть категория Божественная, а не рациональная. Признавая страх Божий как истинную премудрость, Иов тем самым не перешагивает опасную грань, для него Благо остается важнее, ценнее познания, и в этом он “полагает предел тьме, и сокровенное выносит на свет”, и “не отменяет сам себя”, как случается с теми, кто в погоне за “сокровищем” о Благе забывает.
Композиционно главы с 28-й по 31-ю напоминают “заключительную речь обвиняемого”. Иов излагает свое “дело” перед Богом в полном объеме. Сначала он говорит о мудрости как о замысле Творца и о страхе Божьем как о единственной заповеди, данной всему творению во главе с человеком, и о возможности постижения этого самого замысла. Далее следует “плач Адама”; Иов сокрушается о том, что богообщение не вечно, что и праведник, коего “Бог хранил” и “светильник Его” был над его главою, обречен смерти и тлению (29:1–6). И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя - голосом плачевным (30:31). В конце он перечисляет Божьи заповеди, которые не нарушал и не скрывал, как Адам. Если бы я скрывал проступки мои, как человек… (31:33). На месте “человека” в еврейском тексте стоит слово “Адам”, причем единственный раз с большой буквы, как имя собственное! Смысл всего изложения таков: “я не грешил, исполнял все заповеди и не скрывал греха, как Адам, который нарушил единственную заповедь”. Кончается речь Иова “пожеланием”, чтобы обвинитель , составил обвинительную запись: Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец (31:36).
Иов судится с Богом! В этой заключительной речи явлена удивительная особенность семитского интеллекта - требование исполнения и изменения закона на высочайшем уровне. По сравнению с такой логикой Римское право - просто детская игра! И несмотря на то, что в словах о “венце из грехов” звучит искренняя готовность к жертве, в них же звучит и удивительная гордость. Сокрушаясь о “потерянном рае”, Иов сожалеет и о славе земной: Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, - юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли; князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои <…> Ухо, слышавшее меня, ублажало меня; око видевшее восхваляло меня (29:7–11). Иов пытается говорить языком покаяния, но вместо этого восхваляет себя, перечисляет грехи, коих не совершал: “Не позволял, не оскорблял, не отступал, не прелюбосотворил” и т. д. Терновый венец из грехов как-то не сплетается, слова жалобные и покаянные легче пуха повисают в воздухе. Иов все сказал, самое важное прозрел - и об искуплении, и о мудрости, но что-то осталось недосказанным, не разрешилось в гармоничный аккорд.
Вот тут-то выступает четвертый герой, некто Елиуй, “молодой и смелый”, не умудренный житейскими истинами, но “исполненный духом”. Он называет себя “молодым вином”: утроба моя <…> готова прорваться, подобно новым мехам . Пылко негодует он на трех друзей, что не сумели они открыть правды, не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова, и на самого Иова также излился гнев его (32:2–3).
Елиуй. Главы 32–37
Блейк в своей аллегорической поэме соединил образ Елиуя с Иоанном Крестителем, предтечей Христа. Этот герой - боговдохновенный проповедник, и после его пламенной речи является Сам Бог.
Исследователи Библии, однако, считают эти главы более поздней вставкой. По содержанию речи Елиуя словно эхо повторяют поучения трех друзей, а последующее Богоявление в какой-то мере ослабляет их смысловую значимость. В самом тексте много арамеизмов, что также указывает на его поздний возраст. Кроме того, о Елиуе ничего не говорится ни в начале, ни в конце; Бог, порицая трех друзей, никак не отметил его. Но даже если эти главы - поздняя вставка, ее наличие чрезвычайно важно, так как является древнейшим комментарием к книге Иова, ведь Елиуй дает оценку всем и вся, подводит итог. Вот я, как ты пред Богом , - говорит он Иову, - также взятый из брения, поэтому страх передо мною не может смутить тебя (см. 33:6). Кажется, будто позднему переписчику, принявшему всю историю близко к сердцу, так и не терпелось высказать свое мнение Иову в лицо! Он, как и его герой, Елиуй, берется разобрать дело наново. И хотя он противопоставляет себя трем старцам, Иов его крайне возмущает: Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду <…> Потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугождении Богу (Иов говорил, что - нет, если человек смертен. - Е . Г .). Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему (34:7–11). К счастью, на эту реплику Иов уже не мог ответить, не то речи пошли бы по четвертому кругу.
Каковы же главные обвинения Иову от Елиуя?
Во-первых: Вседержитель не извращает суда (34:12). Во-вторых: Он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования <…> потому что Он делает известными дела их (34:23–25). В-третьих: Иова самого следует подвергнуть суду: Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан, по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление , будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога (34:36–37). Как точно чувствует Елиуй “корень зла”! Иов - мятежник, дерзкий богоборец, левиафан! К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, Ты научи меня; и если я сделал беззаконие, больше не буду. По твоему ли рассуждению Он должен воздавать? (34:31–33). В итоге, правда, именно по рассуждению Иова Бог ему и воздает (вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов , - говорит Бог - 42:7).
Очень любопытно, как Елиуй понимает праведность. Он присоединяется к спору Иова с Елифазом о том, какая кому “выгода”, если человек праведен (глл. 22, 23). Елифаз тогда сказал: “Богу - никакой, зато есть выгода нам”, Иов сказал в отношении Бога: “пусть испытает меня, выйду, как золото”, и тогда будет “выгода” праведнику. Но нет никакой “выгоды” быть праведником, если праведник обречен. Елиуй полностью поддерживает Елифаза, он считает, что праведность и беззаконие суть вещи земные: Нечестие твое относится к человеку <…> и праведность твоя к сыну человеческому (35:8). То же самое говорил и Вилдад: “И как человеку быть правым пред Богом?”, человек может быть “правым” перед человеком. И потому Бог наказал Иова за грехи против человеков. Такая позиция, как видно, ничем от мнения трех друзей не отличается и не проясняет смысл Иовых страданий.
Нечестие же Иова относилось главным образом к Богу: оставил страх к Вседержителю (см. 6:14).
Иов (как следует из пролога) был праведник, то есть с точки зрения ветхозаветных представлений лучше всех исполнял закон, но вместо радости получил узы. Так считали евреи, попавшие в рабство. Иов вопит о несправедливости, о том, что мир устроен плохо. Но помимо такого понимания (исторического), есть еще и другое . Иов, как очевидно из всего текста книги, и до своего несчастья размышлял о несправедливости мироустройства, но не как революционер, а на онтологическом уровне. Ему не давала покоя мысль, что грандиозное здание, возведенное Творцом, обречено, словно город из песка. Зачем усердствовать, если все - суета сует и томление духа? Еще будучи в благополучии и добром здравии, он боялся за детей своих и возносил всесожжения, приносил искупительную жертву за их грехи. И про себя он чувствовал, что без искупления, без жертвы не видать ему бессмертия, каковое брезжило ему в минуты богообщения. Он, мудрец, избранник, питающий народ, хранитель сокровищ премудрости, понимает праведность как богообщение и богоподобие (бессмертие). Именно так понимали христиане слово обожение и связывали возможность его достижения с воплощением Божественного Искупителя. Имея многие благие лета, Иов чувствовал, что не они - награда за его праведность; он уже тогда подозревал, что цена бессмертия и мудрости слишком высока.
Богоявление. Главы 38–42
Драма близится к развязке. Бог теперь говорит с Иовом, вопрошает его. Само по себе Богоявление - это уже ответ. В этих главах и в прологе Бог именуется Яхве , потому что Он говорит Сам, то есть являет Свою сущность.
Слова Бога - явление сокровищ премудрости. Прежде всего Он вопрошает Иова о загадках творения от основания земли до родов у ланей. Начинается эта речь вопросом: Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? (38:2). В основе мироустройства - Божий замысел. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма (Быт 1:31).
Иов “омрачает Провидение”, так как не приемлет мира, требует “пересмотра приговора”, не возлагает мудрого упования на Бога. Друзья его, люди праведные, звезд с неба не хватали. Их упование на Бога не омрачало Провидения, так как никакого особого упования они на Него не возлагали, но зато твердо верили, что об их земных нуждах Господь промыслит, как промышляет о скотах и птицах. Иов же дерзает постичь Божий замысел, “исследованием найти Бога”. Возвеличившись духом, он искушаем славой: тем, что ждали его “как дождя”, что он “назначал пути” и сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих (29:23,25). Вот суть человеческого титанизма - претензия спасти мир, решение задач мирового масштаба, но бессилие и слепота в отношении собственного удела. “Нечестие” Иова потому и относится к Богу, что он решился сам “назначать пути” и утешать плачущих.
И потому Бог спрашивает Иова: Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И далее: Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие; излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его; взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их; зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою. Тогда и Я признаю, что десница твоя может спасать тебя (40:4–9).
Уничижает ли Бог Иова? Перед этим Он вопрошал его с насмешкой о вещах непостижимых, о тайнах творения: Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной? Где путь к жилищу света и где место тьмы? (38:16,17,19) . Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? (39:32). На это Иов отвечает: Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои (39:34). Так и мы полагаем руку на уста наши, ибо не ведомо нам, каким был создан мир. А Бог говорит Иову и нам о “чудищах”, о бегемоте и левиафане, коих называет “верхом путей Божиих”, точно посмеиваясь.
Ответ Бога Иову - левиафан!
Восставшему в гордыне дерзновенной,
Лишенному владений и сынов,
Простертому на стогнах городов,
На гноище поруганной вселенной,
Мне - Иову - сказал Господь:
“Смотри:
Вот царь зверей, всех тварей завершенье -
Левиафан!
Тебе разверзну зренье,
Чтоб видел ты как вне, так и внутри
Частей его согласное строенье
И славил правду мудрости Моей”.
Вот главное содержание слов Бога по мысли Максимилиана Волошина. И как бы странно ни казалось, этот образ Рыбы-Кита - удивительное соответствие и выражение всей совокупности представлений о творении, мироустройстве и предназначении человека. Раскрыть его загадку пытались в художественных произведениях, а иначе и нельзя, ибо это - целостный образ, и смысл его иррационален. Герман Мелвилл написал роман о китобоях и считал это произведение главным делом своей жизни. Современники его не поняли, посчитали, что автор переборщил, напридумывал много лишнего. Приключенческий роман был слишком перегружен китологией, философскими отступлениями, лишен любовной интриги. Как и библейский текст, произведение Мелвилла символическим не назовешь. Наоборот, автор пишет в традициях реализма XIX века, но вместо серийного приключенческого романа создает миф, то есть произведение, выходящее за рамки времени. Маниакальная погоня за белым китом - концентрация всех усилий, направленных на обуздание враждебного мира, титанический порыв смирить все гордое , излить ярость гнева (см. 40:6). Роман кончается гибелью всей команды. “Божий мир” оказался враждебным человеку? Был ли он таким изначально? И кто такой левиафан?
Он в день седьмой был Мною сотворен, -
Сказал Господь, -
Все жизни отправленья
В нем дивно согласованы. Лишен
Сознания - он весь пищеваренье.
И человечество извечно включено
В сплетенье жил на древе кровеносном
Его хребта, и движет в нем оно
Великий жернов сердца.
Тусклым, косным
Его ты видишь. Рдяною рекой
Струится свет, мерцающий в огромных
Чувствилищах;
А глубже - в безднах темных –
Зияет голод вечною тоской.
Чтоб в этих недрах, медленных и злобных,
Любовь и мысль таинственно воззвать,
Я сотворю существ ему подобных
И дам им власть друг друга пожирать.
Что это? Чудовищная картина тварного мира как биологического преизобилия, “тусклого и косного чувствилища”, “медленных и злобных недр”? Неужели мир со дня творения нуждался в спасении? Неужели только человек мог пробудить в нем “любовь и мысль”? Люди - создания из праха, из биологической массы “кровеносного древа”, наделенные властью “друг друга пожирать”?
Волошин прозорливо, как бывает свойственно поэтам, измыслил “день седьмой” днем сотворения левиафана. Согласно книге Бытия, в день шестой Бог создал человека, а в день седьмой почил от всех дел Своих, которые делал (Быт 2:2). Волошин выбирает седьмой день как “начало и конец” - день, когда не творилось ничего и в то же время все уже было сотворено. В “Иове” Бог говорит о левиафане: Это - верх путей Божиих (40:14). В оригинале на месте слова “верх” стоит слово, означающее начало и конец. Вряд ли Волошин читал Библию в оригинале, но поэтическая случайность оказалась закономерной: неоднозначность образа левиафана присутствует в Священном Писании и делает его символичным. Левиафан - не только мир, но и человек: Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости (41:25–26). Поэт догадывается, что, говоря о левиафане, Бог говорит в том числе и о человеке; любуясь великолепным левиафаном, Бог любуется свободным своим созданием - человеком: Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? станешь ли забавляться им, как птичкою…? (Иов 40:23,24). Вот и ответ на вопрос, уничижает ли Бог Иова и Свое творение, возьмет ли его навсегда Себе в рабы? Внутри сего левиафана, “в безднах темных… зияет голод вечною тоской”, - вечный зов к познанию, к реализации священного и страшного дара свободы. Ведь “любовь и мысль таинственно воззвать” можно лишь в свободных существах. Левиафан - царь над сынами гордости, но раб самого себя, он - титан, который кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь (41:23), но самого себя переплавить не в силах, и существа, ему подобные, имеют власть “друг друга пожирать”.
Я говорил:
“Зачем меня сознаньем
Ты в этой тьме кромешной озарил
И, дух живой вдохнув в меня дыханьем,
Дозволил стать рабом бездушных сил,
Быть слизью жил, бродилом соков чревных
В кишках чудовища?”
Кромешная тьма - словно корпус Титаника-левиафана, это - не власть плоти, это - чрево свободы, оно тяжелило и в Едеме, но без свободы не бывает любви. И поэт, и Иов плачут и стенают, что Бог попустил человеку возможность “стать рабом бездушных сил”, рабом левиафана, рабом самого себя.
В раскатах гневных
Из бури отвечал Господь:
“Кто ты,
Чтоб весить мир весами суеты
И смысл хулить Моих предначертаний?
Весь прах, вся плоть, посеянные Мной,
Не станут ли чистейшим из сияний,
Когда Любовь растопит мир земной?
Сих косных тел алкание и злоба -
Лишь первый шаг к пожарищам любви.
Я Сам сошел в тебя, как в недра гроба,
Я Сам огнем томлюсь в твоей крови.
Как Я - тебя, так ты взыскуешь землю.
Сгорая - жги!
Замкнутый в гроб - живи!
Таким Мой мир приемлешь ли?”
- “Приемлю…”
Взыскание земли
Слова Бога и вся история с Иовом - ребус мироздания. Его решение - неблагодарный и напрасный труд. Можно было бы обойтись без дальнейших размышлений, закончить на поэтической ноте - на образе левиафана у Волошина. Но идея, послужившая поводом для написания данной работы, требует конечного осмысления.
Мы начали с того, что эта книга проливает свет на природу творчества. Творчеству присуще дерзновение, оно связано с реализацией дара свободы, с вечным стремлением человеческой личности к познанию мира. В притче о рудокопах ведется рассуждение об этом стремлении, но не ради самого человека, вернее, не ради его эгоистического возвышения, головокружительного пьедестала мирового диктаторства, но к познанию, открывающему путь к Истине, сохраняющему своею целью Благо - к Божественной Премудрости. Кроме того, в книге Иова (в том числе и в притче о рудокопах) говорится о том, что это стремление к познанию (стяжание драгоценной руды) несет в себе жертвенность во имя бессмертия творения, искупления мира, взыскания земли. Рудокопы устремляются в недра, бросаются в объятия тени смертной, чтобы вынести сокровенное на свет (“как Я - тебя, так ты взыскуешь землю”). По сути, искусство сродни жертвоприношению. А высшее назначение человека как раз и есть сугубо творческое - ему, сотворенному по образу и подобию Божию, предстояло соделаться творцом, умным распорядителем в насажденном Богом изобилии. И заповедь не вкушать от древа познания как раз и состояла в том, чтобы следовать воле Божьей - удаляться от зла, постигать мудрость, изъявляя добрую волю в прямом смысле этого слова. Эта была единственная жертва, жертва любви, отказа от самости во имя разума.
Но важно отметить одну особенность (которая отмечалась нами и ранее): Иов говорит о творении как о замысле, в основание которого изначально было брошено зерно свободы. В притче о рудокопах премудрость Божья - замысел о мире - трактуется именно так: Господь “видел”, “явил”, “приготовил” и “еще испытал” ее и сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла - разум . Замысел о творении - это испытание . Враждебность мира - лейтмотив книги Иова, причем весь ужас земного устроения Иов “сваливает” на Господа; рассуждая о премудрости Его, он эту премудрость связывает с преисподней - не обретается она на земле живых . Такой замес жизни и смерти на начальном этапе, до грехопадения Адама, - вещь немыслимая!
Стихотворение Волошина акцентирует эту по сути еретическую идею, идею, что мир - страшен и всегда был таковым . Интересно, что слово “страшный” не всегда понималось так, как мы понимаем его сейчас. В старославянском оно означало “великий”, “непостижимый”, в современном языке оно стало означать “ужасный”, “гибельный”. Тетива, натянутая между этими двумя смыслами, все время вибрирует в рассуждениях Иова. И в ответе Бога эта нота звучит отчетливо, Он говорит о творении как о чем-то совершенно свободном, прекрасном и одновременно жестоком. У каждой твари, Им перечисленной, - своя повадка, свой обиход. Вот о страусе: Он жесток к детям своим, как бы не своим <…> потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. О коне: В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. Об орле: Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных; оттуда высматривает себе пищу <…> Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он (39:16–17,24,28–30). Но самым “возмутительным” является описание бегемота и левиафана. Вот обитатель моря - левиафан: Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса (41:15–17).
Не только поэт Волошин и иже с ним (поэты, писатели, художники) почувствовали этот странный мотив, звучащий в книге Иова (назовем его мотивом свободной стихии или морским ). Профессор иерусалимского университета Моше-Давид Кассуто , правоверный иудей, обнаружил в книге Иова (и не только в ней) следы древней эпической Песни о бунте моря. В этой песне предположительно рассказывалось о том, как во времена сотворения мира (если правомочно здесь говорить о времени ) море восстало на Творца. В своей работе Кассуто опирается на вавилонские и ханаанейские источники, а также на различные древнееврейские тексты. Заметим, что уважаемый профессор придерживается весьма ортодоксальных взглядов и не дает разыграться своему воображению. “Боже вас упаси подумать, - пишет он, - что когда Святой, благословен Он, творил Свой мир, кто-то из сотворенных отказался выполнять отведенную ему роль; Боже вас упаси подумать, что какая-то часть из частей мира имела самостоятельную волю и противилась воле Создателя” .
Не только в иудаизме, но и в христианском богословии этот мотив всегда “превозмогался” как стилистический прием, никогда не толковался он буквально; так и была утеряна Песнь о бунте моря.
Происхождение мифа, а также его значение Кассуто считает чисто поэтическими: “Море постоянно обрушивается на берег, как бы стремясь ворваться на сушу и поглотить ее, но все его усилия напрасны <…> Поэты разных народов создали на этой основе чудесные истории о великих войнах между богами” .
Кассуто изо всех сил старается отмежеваться от поэтов разных народов, ведь главной целью его работы было доказательство того, что в древнем Израиле помимо Писания существовал свой оригинальный эпос: “вряд ли можно предположить, что наши пророки и поэты обращались к языческой мифологии” , - пишет профессор.
На первый взгляд, задача достаточно скромна. Трудно предположить, чтобы какой-то древний народ обходился без литературного творчества, тем более устного. Но у профессора Кассуто были свои основания для подобного доказательства. Литературное творчество древних евреев все так или иначе сводилось к Священному Писанию. Этот народ не знал иных песен, кроме тех, что славили Единого Бога. И все деяния мужей израильских связаны с их взаимоотношением с Богом. Эпос - сказания о богах и героях - жанр, по сути чуждый евреям. Таким образом, поставленная задача была не так уж проста. Профессор оказался между Сциллой и Харибдой. С одной стороны - нельзя оставить без оригинального эпоса древний народ (но тогда придется признать, что в Писании присутствуют элементы язычества), с другой стороны - надо этот эпос как-то оправдать, уложить в рамки духа нации.
Кассуто оправдывает поэтов - авторов Священного Писания тем, что “такие элементы были нужны , когда речь шла о мощи Всевышнего или о врагах Бога и врагах Израиля, которые сравнивались с бунтующим морем и его союзниками”. Действительно, таких мест в Писании большинство, но вместе с тем бунтующее море и потоки, а также левиафан и танины появляются и в других местах. Например, в книге Иова, когда говорится о сотворении мира: Силой Своей укротил Он море (26:13) .
Самое удивительное, что в книге Иова при описании левиафана не только не содержится порицания, но наоборот, присутствует тон восхищения и одобрения: “Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?”. Бог осуждает Иова за его бунт против мироустройства. Левиафан - символ мира и человека, свободных созданий, а не рабов. Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его (левиафана -Е . Г. ); кто же может устоять перед Моим лицем? (41:2). Здесь чуть ли не сопоставление левиафана с Богом!
Не решаясь рассуждать на тему свободы как изначального зла, заложенного в основание мира, Кассуто делает неожиданный вывод: “Море и потоки, бунтующие против Всевышнего, стали в Израиле символом сил зла, противящихся воле Бога, при этом Бог мыслился как Источник абсолютного Добра. Они стали символом злодеев, людей и народов, творящих вопреки Его воле зло в мире. Победа Бога стала символизировать, с одной стороны, аспект Божественного суда, карающего грешников, с другой стороны - ожидаемую в конце времен окончательную победу над грехом, когда Бог уничтожит сам принцип зла в сотворенном Им мире ” .
Если “уничтожение принципа зла” есть итог понимания, то ничто не мешает предположить, что тот же “принцип” лежал в основании всей “истории”.
В этой фразе (неожиданно для себя) Кассуто раскрывает суть инновации, привнесенной израильской традицией в этот космогонический миф. Восстание моря, бунт стихии, ее свобода есть принцип зла в сотворенном мире. Сознание первородного греха у древних евреев наложило существенный отпечаток на понимание всей картины мироустройства. Не Адам был “злом”, но данная ему свобода. Море и левиафан становятся “злом” из-за своей гордыни, из-за своего восстания. Новаторство израильской традиции - не в перестановке ролей (Единый Бог и войны богов), но в оценке мироустройства, что совсем не характерно для космогонических мифов.
Однако свобода не есть принцип зла (с таким же успехом ее можно было бы назвать принципом добра), но принцип жизни.
Замысел Творца - не театр марионеток, а мир, несмотря на назначенные пути и уставы, - не выстроенная декорация, а скорее поле для деятельности. Мир не был бы полон без человека, который, в свою очередь, не мог бы состояться без мира,
и человечество извечно включено
в сплетенье жил на древе кровеносном…
Человека недаром называют микрокосмом, он сочетает в себе два качества жизни - материальное и духовное. Святитель Григорий Палама считал, что именно материальная сущность сообщает человеку возможность творчества: “Ангелы, сотворенные, подобно человеку, по образу Божию, имеют ум, разум и дух, но их дух не обладает творческой силой , так как с материальным телом не связан, и в этом отношении он ниже духа человека” .
Мир, созданный Богом - “хорош весьма”, но, может быть, “хорош” он именно потому что свободен, в том смысле, что он - жив, плодоносен, многообразен и, как всякое истинно гениальное творение, способен существовать помимо Творца, способен развиваться и даже порождать из себя нечто новое. В этом смысле теория эволюции никакого противоречия с учением Церкви не имеет. Жизнь как беспощадный “круговорот веществ в природе” и смерть предполагает как всего-навсего необходимый виток для своего продолжения, а не как зло .
Но замкнутая система тяготеет к самоуничтожению, смерть начинает преобладать над жизнью. Таков закон “свободного мира”. Человек - та крупинка, песчинка в мире (“соль земли”), которая должна направить это развитие вспять, против его неумолимой логики, но по логике любви, по логике Царства, которая предполагает самоотречение во имя жизни. Тело, материя дают возможность реализоваться творческому потенциалу, смысл которого - в преодолении “хода вещей”. Мир, созданный Богом, свободен и полон жизни, но у него не было свободы воли, свободы вне его собственной стихии, у него не было выбора, он был обречен без человека. Именно человеку предстояло “восставить прах”, созиждить творение, сделать каждую вещь, каждую тварь умной и в первую очередь созиждить самого себя как часть этого творения. Иов, вопя и “богохульствуя”, как раз отстаивает эту способность человека к истинной свободе, то есть способность к выбору, способность размежеваться со стихией (“разве я море или морское чудовище, что ставишь Ты стражу надо мной?”). Кассуто все время цитирует эту фразу, но в его интерпретации она имеет иной смысл (как раз тот смысл, который проповедуют три “друга”: “чудовище” - грешник, враг, беззаконник).
В эпической Песне о бунте моря Бог низвергает восставшую стихию, положив ей предел , поставив над нею стражу , ей не дано перейти некую грань. Взбунтовавшийся Иов эту грань оспаривает, именно поэтому он говорит: “разве я море или морское чудовище?”. Здесь нет дидактического привкуса, море ограничено в своей свободе, человеку же, праведнику, причитаются горизонты дальние; ему, стяжателю премудрости, причитается бессмертие.
Заключение
Вопросы избранничества, искупления (жертвенности) и бессмертия насущны для искусства; ведь оно - та сфера человеческого бытия, которая связана с процессом познания не меньше, чем наука, философия и религия. Слово искусство очень часто (гораздо чаще, чем слово наука ) “растягивают” в разные стороны с корыстными намерениями. Говорят, например, “актуальное искусство” или “искусство рекламы”, повышая рейтинг всех сфер жизнедеятельности человека до головокружительного уровня. Это слово все больше и больше употребляется в метафорическом смысле, и когда-нибудь оно рискует застрять в нем окончательно. Но это проблема языка, а не искусства. По-французски оно называется beaux-arts‘прекрасное, букв. изящные искусства’, и не это ли качество, не это ли значение кладется в основу всех метафорических его смыслов? “Прекрасное” в искусстве значит “Божественное”,“вечное”; именно это “свойство” мы и пытаемся найти в многочисленных наших реалиях, очень часто привязывая его к вещам прямо противоположным. Категория прекрасного в искусстве не устареет никогда, сколько бы модернисты и актуалисты ни пытались ее редуцировать. Это совсем не означает, что уродливые портреты героев и реалий нашего времени - запретная тема, но она требует сублимации или катарсиса. Да и само время (злободневность) нуждается в вечности; без этого произведение искусства обречено, - его уделом станет тление, даже если период его “полураспада” очень велик.
Книга Иова, как, впрочем, и любая другая книга Библии, - благодатная почва для интерпретаций и выуживания архетипических идей. Но думается, что к вопросу о природе творчества она имеет непосредственное отношение: ответ Бога о левиафане при всей широте смысла сводится именно к творческой проблематике. Иов, “левиафан”, как и некоторые иные “левиафаны”, художники и поэты, заслуживает Божие благословение. Иов, омрачающий Провидение дерзкими своими речами, промыслил Искупление и не отвергся слов Святого (см. 6:10), вышел в испытании как золото . А Елифазу Феманитянину Господь сказал: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов (42:7). За их нечестие - жертва всесожжения, семь тельцов и семь овнов, да и то лишь по молитве Иова: раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму (42:8). Лицо, то есть личность; личность важна для Бога, и это Его ответ на вопрос Елифаза и Елиуя Разве может человек доставлять пользу Богу? (22:2).
Иов умер, насыщенный днями , - исполнились ли обеты его? По милости Божией он познал истинное сочувствие от людей, которые “ели с ним хлеб” и “утешали его за все зло, которое Господь навел на него”. И не вместе ли с Адамом был он одним из первых восставлен из тления, когда пришел Искупитель и сошел во ад? Не пережила ли история о нем все века, и до, и после, и до наших дней?
Иов - образ художника-праведника. И, может быть, только это понятие о художнике и имеет право на существование. Праведник - не законник и фарисей в искусстве, но скорее - “авангардист”, избранник и пророк, земная участь которого незавидна. У этого человека должны быть какие-то отношения с Богом, пускай даже не очень хорошие. Хоть он творец мифов и небылиц, в этих мифах всегда присутствуют идеи, выносящие их за рамки времени и места, создающие особый мир-хронотоп со своими пространственно-временными характеристиками, “новый мир” в буквальном смысле этого слова. Художник, творец действительно “взыскует землю”, творит чудное из ничего, из праха и глины, красотой спасает мир, и только этим удостаивается вечности.
Высотах).).
Обращаясь к словам Лорки, необходимо иметь в виду, что действия темных сил и смерть традиционно занимают значительное место в испанской культуре (как и в производной от нее культуре Латинской Америки), поэтому вряд ли можно приписывать высказыванию Лорки универсальное значение. Скорее уж подлежит пристальному исследованию расхожее мнение о том, что творчество обязательно связано с воздействием темных сил, хотя на самом деле оно включает их преодоление. Ниже автор статьи пишет о “псевдо-бесноватых” в современном искусстве, справедливо расценивая их как людей бездарных и имитирующих то, что принято считать компонентом творчества. Но очевидно правильно было бы утверждать, что всякое творчество (достойное этого имени) - от Бога, всякое извращение творчества (или его имитация) - от лукавого. Несомненно справедливо то, что человек искусства призван постоянно преодолевать самые жестокие искушения. Несколько переместив аспект рассмотрения, скажем, что противоборство князю века сего присуще всякому, кто исповедует воскресшего Спасителя, а вне этого исповедания возможен либо языческий (он же панический) страх перед темными силами, либо капитуляция, в той или иной мере сознательная. - Ред И Ты возлюбил бы дело рук Своих Адонай Моше-Давид Кассуто . Эпическая поэзия в Древнем Израиле. Гл. 1–3 // Литература Писания и ханаанейская литература. Сб. статей “Библейские исследования”. Академическая серия. Вып. 1. М., 1997.
Танин ‘дракон, большой крокодил’ - слово на иврите, используемое в масоретском тексте; в Синодальном переводе: рыба большая (см. Быт 1:21), большой крокодил (Иез 29:3).
В мифах разных народов изобилие, плодородие именно так и трактуются. Например, египетский миф об Осирисе, греческий - о Персефоне, дочери богини плодородия, живущей в царстве мертвых, и т. д.
МИРОВАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
БИБЛИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Беседа вторая
Вторая половина XIX века ознаменовалась творчеством многих великих русских писателей. Охватить их всех в одной лекции нам не удастся. Я хотел бы остановиться сегодня на трех основных именах в литературе этого периода: на Федоре Достоевском, Льве Толстом и Владимире Соловьеве.
Многие люди недооценивают его религиозных исканий. Они, несомненно, глубоко искренни, мучительны, но то, что человек, почти в течение тридцати лет считавший себя проповедником Евангелия, оказался в конфликте с христианством, даже отлученным от Церкви, показывает, что Толстой был очень сложной фигурой, трагической и дисгармонической. Он, воспевший такие мощные гармоничные характеры, сам был человеком, страдавшим от глубинного душевного кризиса.
Те из вас, кто хоть немного знаком с его биографией, должны вспомнить тот ужас, который он переживал в Арзамасе. Это был ужас смерти, и даже хуже, чем ужас смерти. Сначала, когда он обращался к Священному Писанию, его, как и Достоевского, пленяла эпическая сила Библии. Он писал, в частности, в своей статье ╚Яснополянская школа╩, что для детей читать Священное Писание - дело святое, потому что это книга детства человечества. Поскольку статья эта малоизвестна, несколько строк я вам приведу. ╚Мне кажется, - пишет он, - что книга детства рода человеческого всегда будет лучшей книгой детства всякого человека, заменить эту книгу, мне кажется, невозможно, изменять и сокращать, как это делают в учебниках Зоннтага и прочее, мне кажется вредным. Все, каждое слово в ней мне кажется справедливым, как откровение, справедливым, как художество. Прочтите по Библии о сотворении мира и по краткой Священной истории, и переделка Библии в Священной истории вам представится совершенно непонятной. По Священной истории нельзя иначе, когда учишь наизусть, по Библии ребенку представляется живая величественная картина, которой он никогда не забудет╩. Интересная мысль, хотя во все века люди все-таки старались перелагать Библию, в частности, для детей.
Толстой погружается в Ветхий Завет, даже изучает древнееврейский язык, чтобы читать его в подлиннике, потом все это бросает. Он обращается только к Новому Завету. Ветхий Завет для него, оказывается, просто одна из древних религий. Но и в Новом Завете его многое не удовлетворяет. Апостол Павел и его Послания кажутся ему церковным извращением истины, и он приходит к четырем Евангелиям. Но и здесь, оказывается, ему все не то, и он идет как бы на конус, уменьшая и уменьшая все то ценное, что есть в Библии. Сначала Он выбрасывает из Евангелия все чудесное, сверхъестественное, а затем - не только это, но и высшее богословское понятие: ╚В начале было Слово╩, Слово как божественный космический Разум. Толстой говорил: ╚В начале было разумение╩. Славой Христовой, то есть отражением вечности и личности Христа, для него было Учение Христа.
Почему произошло так, что он странным образом искажал евангельский текст? Причина одна. Еще в молодые годы он записал в своем дневнике: ╚У меня есть цель, важнейшая цель, которой я готов отдать всю свою жизнь: создать новую религию, которая бы имела практический характер и обещала бы добро здесь, на земле╩. И Евангелие оказалось для него всего лишь подтверждением его собственной религиозной концепции. В чем она заключалась?
Безусловно, существует некая таинственная высшая сила. Едва ли она может считаться личной: скорее всего, она безличная, потому что личность - это нечто ограниченное. Заметьте, Толстой, создавший великолепные образы человека, бывший сам ярчайшей личностью в мировом масштабе, был принципиальным имперсоналистом, то есть не признавал ценности личности. Отсюда и его представления о ничтожной роли личности в истории вы помните, как все это отразилось в ╚Войне и мире╩. Так вот, по Толстому, это некое высшее начало, которое каким-то непонятным образом побуждает человека быть добрым.
╚Верю ли я в Бога? - писал Толстой в 1900 году. - Не знаю, но я верю в то, что надо быть добрым и это есть высшая воля╩. ╚Добро по отношению к людям - заповедь всех верований с древнейших времен╩, - писал он. Разумеется, в чем-то он был прав. Но это же есть не только в христианстве, но и в буддизме, и вообще всюду.
По Толстому, Христос проповедовал разумную здравую жизнь: разумно быть добрым по отношению к людям, разумно отбросить груз цивилизации, которая угнетает человека, разумно трудиться своими руками. ╚Христос учит нас, - пишет он, - не делать глупостей╩. Вот эта фраза Толстого (я не говорю, что она такая примитивная, нет) показывает ясно, что он хотел сказать, что только здравый смысл - вот что является основанием Евангелия. Вот эта фраза в книге ╚В чем моя вера?╩, что Христос учил не делать глупостей, - это радикально отличается от Евангелия. Совсем не в этом его суть. Христос приходит к нам, чтобы открыть Свое сердце, а через него - весь мир, чтобы открыть личностную тайну Божества, которая отражается в бесконечной ценной личности каждого из нас. Именно поэтому все время говорится во всех Евангелиях: Он пришел, чтобы спасти каждого, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Не какое-то коллективное человечество, не какая-то безликая масса, а каждый. ╚Я стою у двери и стучу╩, - говорит Христос. Он стоит у двери сердца каждого человека! Этот глубочайший персонализм Евангелия был чужд умственному миру Толстого (хотя как художник он его изображал).
И вот Толстой пишет свое Евангелие. Многие из вас, может быть, впервые и познакомились с Евангелием через толстовское переложение. Вы должны помнить, что это, во-первых, парафраз, то есть совершенно свободное изложение. Во-вторых, парафраз, сознательно искажающий смысл в духе учения Толстого. В-третьих, это не Евангелие, а это фрагменты Евангелия, скомпанованные в некий связный текст, из которого изгнаны почти все моменты, обрисовывающие личность Иисуса Христа. Там присутствует только учение. Недаром Максим Горький после встречи с Толстым писал, что о Будде он говорит возвышенно, а о Христе как-то сентиментально, видно было, что он не любит Его, хотя, может, и восхищается. И это можно проверить, если посмотреть некупированные издания философских произведений Толстого: о Спасителе он говорит там часто грубо, вульгарно, даже кощунственно. Так он не сказал бы о дорогом существе, например, о родной матери.
Свое Евангелие Толстой пытался представить как истинное христианство. Между тем это была религия более близкая к стоицизму или конфуцианству. Она связана с философской традицией от Лао-цзы до Жан Жака Руссо, портрет которого Толстой носил на шее вместо креста с юных лет. Руссо был убежден, что все зло от цивилизации, он думал, что дикарь был лучше нас. Жизнь показала, что и цивилизованный дикарь и нецивилизованный - равны друг другу: человек всегда есть человек. Дело не в цивилизации, мы напрасно корим ее. Виновен человек. В тех трагедиях, экологических, скажем, которые сегодня мучают весь мир, повинен только он. Если бы люди относились иначе к природе и друг к другу, и к земле, то техника не была бы столь человекоубийственной.
Толстой видел трудности и в семейной жизни и так же, как с цивилизацией, он поступил с ней сурово. Фактически он отрицал любовь, брак, пол - он, человек, который до седых волос мог с упоением писать о любви и страсти. Вспомните ╚Воскресение╩. Местами занудно - дидактическая книга, но страницы любви Нехлюдова написаны так, что нельзя даже представить себе, что это писал старик, - их словно бы писал юноша!
Конечно, у вас теперь вопрос: был ли прав Синод, отлучив его? Все-таки был прав. Во-первых, надо сразу сказать, что вот эти сентиментальные истории о том, как анафематствовали Толстого, или как некий дьякон должен был провозгласить ему анафему, а вместо этого вскричал: ╚Многая лета╩ - досужие домыслы. Просто был обнародован весьма краткий и, в сущности, сдержанный в выражениях текст Определения Синода, в котором говорилось, что Лев Толстой, всемирно известный писатель, учит некой религии, которую он выдает за христианство, и при этом ведет яростные нападки на Церковь. Кстати, он, сторонник непротивления и любви, был крайне груб и несдержан, даже ожесточен, я бы сказал, переходил все границы. В определении сказано, что этот человек считается находящимся вне Церкви, что было правдой. Сам Толстой в своей брошюре ╚Ответ Синоду╩ писал: да, совершенно справедливо, что я отпал от Церкви, которая считает себя православной. Это была констатация факта. Никому в голову не приходило отлучать от церкви нехристиан, скажем, буддистов, живших в России, или мусульман, которых было очень много. Потому что они были не христиане. Толстой же утверждал, что он исповедует христианство, и Синод должен был во всеуслышание сказать, что его христианство не совпадает с христианством Евангелия и Церкви.
Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в Церкви еще до того, как были написаны Евангелия. Никаких напластований! Сначала открылась тайна Христа, потрясшая всех. Не учение! Рассуждений на тему морали было много у самых разных философов и мудрецов - иудейских, греческих, римских, каких хотите. Тайна Христа была совсем в ином - через Него вечность заговорила с человеком. И уж потом люди стали записывать Его нравственные поучения. Здесь дистанция огромная.
И все же мы можем сказать, что Толстой был прав в чем-то, потому что он обратил внимание христианского общества на пренебрежение какими-то важными элементами учения Христа. Он обратил внимание на равнодушие публики. Вскоре после его смерти выдающийся богослов С. Н. Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и был призван всколыхнуть совесть общества. Поэтому, несмотря на искажения, которым подверглась Библия в его учении, серьезный подход Толстого к Евангелию вызывает не только уважение, но и заслуживает того, чтобы учиться у него.
Они много спорили с Владимиром Соловьевым, молодым тогда философом. Один из очевидцев рассказывает, как спорили Соловьев и Толстой. Обычно Толстой в спорах побеждал, но тут коса нашла на камень. Соловьев, закованный в броню философской диалектики, так наступал на Льва Николаевича, что всем стало как-то неловко, ибо Толстой впервые не торжествовал и был вынужден сдаться. Правда, не признал себя побежденным, но всем было видно, что он не знает, что возразить.
Для Владимира Соловьева , который родился позже Толстого, а умер раньше (1853-1900), Священное Писание было основой всего его бесконечно разнообразного творчества - поэтического, философского, богословского, публицистического.
Я думаю, что многие из вас теперь уже слышали о Владимире Соловьеве, иные читали его произведения, но я хотел бы обратить ваше внимание на несколько строк, которые вообще не были у нас никогда опубликованы. Владимир Соловьев говорил так: вера моя в Богочеловеческий характер Писания значительно выиграла в сознательности и отчетливости благодаря знакомству с новейшею критикою, преимущественно отрицательной школы. То есть он сказал, что научная критика Библии его не только не смутила, но и помогла ему глубже подойти к Писанию.
Соловьев после Хомякова был одним из первых, кто главный христианский догмат о Богочеловечестве приложил к Библии. Во Христе, подлинном Человеке, живет подлинный Бог. Так и в Писании - автор сохраняет свои человеческие особенности, хотя на него действует Дух Божий. ╚Как в живом Логосе, - пишет Соловьев, - Божество нераздельно-неслиянно соединено с человечеством, так нераздельно и неслиянно соединены божественные и человеческие стихии в писаном Слове Божием. И как во Христе человеческая природа представляется не одной только внешностью, так и в Священном Писании элемент человеческий состоит не только из внешнего материала, языка, письмен, а распространяется на все содержание, обнимая самую душу и разум Писания╩.
Владимир Соловьев написал своеобразное толкование на Ветхий и Новый Завет. Это книга ╚История и будущность теократии╩. Толковал он по оригиналу. Греческий язык он хорошо знал с юности, был переводчиком Платона, но он изучил также древнееврейский язык и все цитаты из Библии приводил в собственном переводе с подлинника.
Соловьев рассматривал библейскую историю как историю утверждения божественных принципов не только в душах человеческих, не только в личной жизни, а и в обществе. Теократия означает боговластие как высший идеал, чтобы в общество проникала священная идея солидарности, братства, духовности, ибо без духовности общество будет деградировать.
Библия навеяла Соловьеву целый ряд стихотворений и частично ╚Повесть об Антихристе╩. Умирая накануне XX столетия, предчувствуя, подобно пророку, грядущие катастрофы, которые ожидали наш тревожный век, он в книге ╚Три разговора╩ создал ╚Повесть об Антихристе╩, своеобразную антиутопию, где вселенский диктатор готов сохранить и христианство, но только чисто внешнее, без Христа. Памятники, иконы, искусство, научные, богословские мнения, но - без Христа. Все реалии этого повествования взяты из Апокалипсиса апостола Иоанна. Так завершилось творчество Соловьева через отражение Библии.
Если взять поэзию Соловьева, то есть два стихотворения, на которые я хотел бы в заключение обратить ваше внимание. Одно стихотворение называется ╚Кумир Небукаднецара╩. (Он как филолог произносил имя Навуходоносора как Небукаднецар. Так правильно - так его в древности называли. Навуходоносор - это грецизированная форма имени). Согласно библейскому сказанию, Навуходоносор (он жил в VI веке до нашей эры) сделал реформу богослужения, чтоб все видели идола и падали перед ним ниц. Но Библия, рассказывая о поклонении этому истукану, отнюдь не останавливается на каких-то исторических реалиях. Было много всяких событий, религиозных реформ, но Соловьеву важно было, что это символ мятежа человека против неба.
Он был велик, тяжел и страшен,
С лица как бык, спиной - дракон,
Над грудой жертвенною брашен
Кадильным дымом окружен.
И перед идолом на троне,
Держа в руке священный шар,
И в семиярусной короне
Явился Небукаднецар.
Он говорил: ╚Мои народы!
Я царь царей, я Бог земной.
Везде топтал я стяг свободы,
Земля умолкла предо мной.
Но видел я, что дерзновенно
Другим молитесь вы богам,
Забыв, что только Бог Вселенной
Мог дать богов своим рабам.
Теперь вам Бог дается новый!
Его святил мой царский меч,
А для ослушников готовы
Кресты и пламенная печь╩.
И по равнине диким стоном
Пронесся клич: ╚Ты Бог богов!╩
Сливаясь с мусикийским звоном
И с гласом трепетных жрецов.
В сей день безумья и позора
Я крепко к Господу воззвал,
И громче мерзостного хора
И от высот Нахараима
Дохнуло бурною зимой,
Как пламя жертвенника, зрима,
Твердь расступилась надо мной.
И белоснежные метели,
Мешаясь с градом и дождем,
Корою льдистою одели
Равнину Дурскую кругом.
Он пал в падении великом
И опрокинутый лежал,
А от него в смятенье диком
Народ испуганный бежал...
Где жил вчера владыка мира,
Я нынче видел пастухов:
Они творца того кумира
Пасли среди его скотов.
Восстание против тирании, против культов ≈ для Соловьева это была очень важная тема. Она отразилась в стихотворении, которым я завершу нашу сегодняшнюю встречу. Соловьев видел в Библии соединение Востока и Запада. Восток - это, с одной стороны, жестокая деспотия, а с другой - свет Вифлеемской звезды, звезды Христовой. Запад - это активность человека, мужество, гражданство, демократия, свобода. Они столкнулись за пять веков до нашей эры, когда войска иранского деспота Ксеркса вторглись на Балканы, пытаясь подчинить демократические Афины. Огромные армии наемников двинулись и встретили оборону у Фермопильского ущелья. Всего триста человек с царем Леонидом во главе отразили огромную армию в узком горном проходе.
Для Соловьева это старинное историческое событие стало образом того, как свобода, гражданственность, мужество и демократия противостоят тирании и азиатской деспотии. Стихотворение называется ╚Ех oriente "ux╩ (╚Свет с Востока╩).
╚С Востока свет, с Востока силы!╩
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.
И кто ж от Инда и до Ганга
Стезею славною прошел?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орел.
И силой разума и права -
Всечеловеческих начал -
Воздвиглась Запада держава,
И миру Рим единство дал.
Чего ж еще недоставало?
Зачем весь спор опять в крови?
Душа Вселенной тосковала
О духе веры и любви!
И слово вещее - не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал.
(Имеется в виду свет Вифлеемской звезды - А. М.)
И разливаяся широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший от Востока,
С Востоком Запад примирил.
О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята,
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Этот вопрос для Соловьева был очень важным, потому что он считал, что библейская история не кончена, что борьба света и тьмы продолжается, что в истории народов сталкиваются не только экономические интересы, не только политические страсти, а подлинные духовные полярности. Поэтому так важно, чтобы отдельные люди и духовные движения, и целые народы принимали участие в становлении духа, в его борьбе против порабощения, косности, безразличности, бездуховности, смерти, черноты во всей жизни. Чтобы Дух шел как борец!
«Ода, выбранная из Иова» принадлежит, бесспорно, к наиболее поэтическим созданиям Ломоносова. Еще в XVIII в. оно приобрело широкую популярность, а в XIX в. сделалось хрестоматийным. Между тем многие вопросы, связанные с этим стихотворением, далеки от разрешения. Прежде всего не ясны ни датировка, ни причины, побудившие Ломоносова создать это произведение. В связи с этим и сам авторский замысел остается невыясненным.
Современного читателя в оде более всего привлекают картины мощи природы. Комментаторы академического издания полагают, что образы из Книги Иова увлекли Ломоносова тем, что «давали случай набросать пером естествоиспытателя картину «стройного чина» вселенной, далекую от библейской». Мнение это следует принять во внимание, хотя, конечно, возникает естественный вопрос: почему для «картины», «далекой от библейской», потребовалось привлекать именно Библию? Напрашивается и другое истолкование: тема Иова, наеденная в русскую литературу протопопом Аввакумом, начинала традицию изображения «возмутившегося человека». «Ода, выбранная из Иова» и «Медный всадник» Пушкина как бы стоят на двух противоположных полюсах развития этой темы…
Обе интерпретации раскрывают определенные стороны ломоносовского текста. Однако следует различать смыслы, которые актуализируются по мере исторической жизни текста, и смыслы, непосредственно актуальные для автора в момент написания произведения. И то, и другое входит в смысловую реальность текста, однако в разные моменты его истории получает различную значимость. Посмотрим на «Оду, выбранную из Иова» с точки зрения 1740 -1750-х гг. и подумаем, почему именно этот библейский текст привлек внимание Ломоносова. Эпоха Ренессанса и последовавший век барокко расшатали средневековые устои сознания. Однако неожиданным побочным продуктом вольнодумства явился рост влияния предрассудков на самые просвещенные умы и бурное развитие культа дьявола. В средние века не только народное воображение создавало образ простоватого и часто одураченного дьявола, но и ученые богословы, опасаясь манихейства, не были склонны преувеличивать мощь царя преисподней. Вера в колдовство преследовалась как пережиток язычества. Еще Дионисий Ареопагит утверждал, что «нет ничего в мире, что бы не было совершенно в своем роде; ибо вся добра зело - говорит небесная истина (Быт. 1, 31)». И Августин, и Фома Аквинат исходили из идеи небытия зла, из представления о зле как отсутствии бытия добра. В такой системе Сатана мог получить лишь подчиненную роль косвенного (по контрасту) служителя Высшего Блага.
Начиная с Данте, образ Сатаны становится все более грозным, величественным и, что особенно важно, самостоятельным по отношению к божественной воле.
Между страхом перед мощью Сатаны, ужасом загробных мук и попытками победить силы ада с помощью костра и процессов ведьм была прямая связь. В 1232 г. папа Григорий IX в специальной булле дал подробное описание шабаша. Страх, внушаемый ведьмами, демонами и их владыкой сатаной, рос параллельно с успехами просвещения, техники, искусств. Дьявол издавна считался «тысячеискусником», умельцем на все руки, ему приписывали и ученость, и необъятную память, которой он может одарить своих подданных, и обладание ключами от всех замков и тайнами всех ремесел. По словам Лютера, «дьявол, хотя и не доктор и не защищал диссертации, но он весьма учен и имеет большой опыт; он практиковался и упражнялся в своем искусстве и занимается своим ремеслом уже скоро шесть тысяч лет». Расширение светской сферы жизни воспринималось в самых различных общественных кругах как рост мощи «князя мира сего», чья статуя появилась на западном портале Страсбургского собора.
Новая эпоха была символически отмечена двумя датами: в 1274 г. скончался Фома Аквинат, в 1275 г. в Европе сожгли первую ведьму. Однако подлинный взрыв «дьяволиады» произошел позже - в XV-XVII вв. Вера в мощь сатаны захватила и гуманистов, и католические, и протестантские круги. Между 1575 и 1625 гг. она приобретает характер общеевропейской истерической эпидемии, прямым результатом которой были процессы ведьм, законы о чистоте крови и расистские преследования в Испании, антисемитские погромы в Германии, кровавые истребления «язычников» в Мексике. Дьявол преследует воображение Лютера, утверждавшего в 1525 г.: «Мы все узники дьявола, который наш князь и бог» («Послание касательно книжки против крестьян»). «Телом и добром своим мы порабощены дьяволу. Хлеб, что мы едим, питье, что мы пьем, одежда, которой мы пользуемся, более того, воздух, которым мы дышим, и все, что принадлежит до нашей плотской жизни, - всё его царство»
Ж. Делюмо отмечает, что огромную роль в демонологической истерии сыграла печать, которая доводила фантастические идеи богословов до читателя в масштабах, совершенно невозможных в средние века. Так, по его подсчетам, в XVI в. «Молот ведьм» Инститориса и Шпренгера разошелся тиражом в 50 000 экз., а 33-томный «Театр дьяволов» - своеобразная энциклопедия сатанизма - в 231 600 экз. К этому надо прибавить не поддающееся учету число народных книжек - массовой культуры той эпохи, в которых и ренессансная культура (Фауст), и ренессансная политика (Дракул) трактовались как порождения союза с дьяволом. Новая эпоха расковала силы человеческой активности, но она расковала и страх.
В такой обстановке протекала эпидемия охоты за ведьмами, охватившая без различия и католические, и протестантские страны Запада. «Шпренгер и Инститорис в XV столетии хвастались еще тем, что за пять лет сожгли в Германии целых 48 ведьм. В XVII столетии во многих небольших немецких территориях пять десятков ведьм нередко отправляли на костер уже за один раз». Расцвет культуры - век Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Пуссена, Буало, Мольера, Расина, Джордано Бруно, Декарта, Лейбница был одновременно веком, когда под напором фанатизма и атмосферы страха чудовищные казни сделались бытовым явлением, а юридические гарантии прав обвиняемых в колдовстве и ведовстве были фактически сведены на нет и спустились до уровня, по сравнению с которым самое темное средневековье представляется золотым веком. Была введена специальная судебная процедура, фактически отменявшая все ограничения на применение пыток. Подозрение превратилось в обвинение, а обвинение автоматически означало приговор. Защитники обвиненных объявлялись их сообщниками, свидетели послушно повторяли то, что им внушили обвинители. Однако самое примечательное то, что в атмосфере невротического страха такой порядок стал казаться естественным не только фанатическим доминиканцам, но и светочам эпохи - гуманистам. Даже Бэкон разделял веру в злокозненное могущество ведьм.
Особенный размах процессы ведьм получили в Германии. Двести страниц убористого шрифта в восьмом томе «Истории немецкого народа» И. Янссена дают на этот счет потрясающий материал. Ограничимся лишь одним примером: известный юрист XVII в., цвет германской криминалистики, образованный Бенедикт Карпцов не только утвердил за свою жизнь 20 000 смертных приговоров ведьмам и колдунам, но и научно обосновал необходимость применения пыток в этих процессах. «Карпцов был человеком строгого лютеранского духа. Он тридцать пять раз перечел всю Библию от доски до доски и ежемесячно бывал у причастия». Однако как только речь заходила о ведьме или колдуне, он превращался из ученого юриста в яростного инквизитора. И это не было его личной особенностью.
Таков был идейный климат Европы в момент, когда на сцену выступили первые деятели Просвещения. Просветители XVIII в. и их передовой отряд - рационалисты XVII в. писали на своих знаменах слова борьбы с «темным средневековьем». Этот лозунг имел отчасти тактический характер, отчасти же отражал возникающую историческую аберрацию: Ренессанс был явлением исключительно сложным, и это стало очевидно в эпоху барокко. Одними своими сторонами он подготавливал «век разума», другими вызвал к жизни бурные волны иррационализма и страха. Готовясь к своему торжеству. Разум часто надевал маску Мефистофеля. Ж. Делюмо с основанием отмечал, что «рождение нового времени в Западной Европе сопровождалось невероятным страхом перед дьяволом». Прошли времена, когда церковь боролась с верой в колдовство, - теперь сомнение в существовании ведьм и их злокозненной деятельности стало столь же опасным, как и сомнение в бытии бога.
Для рационалистов XVII в. и просветителей XVIII в. именно дьявол и вера в его могущество становились врагами первой степени. Бог - перводвигатель и первопричина - легко подвергался деистической интерпретации и вписывался не только в мир Декарта, но и в космогонию Ньютона и Вольтера. Иное дело дьявол. От веры в него пахло кострами, вспоминались инквизиция, фанатизм, суеверия, религиозная нетерпимость - всё, что вызывало непримиримую ненависть воинов Разума.
Ситуация эта была прекрасно, и не только по книгам, известна Ломоносову. Деятельность Карпцова протекала в Саксонии, и Ломоносов, приехавший в саксонский город Фрейберг для учения, конечно, слышал о тысячах костров, еще недавно пылавших в этом королевстве. Саксония, однако, не была ни исключением, ни центром охоты на ведьм, и, странствуя по Германии, Ломоносов не мог не слышать отзвуков настроений, сотрясавших всю Европу несколько десятков лет перед этим, тем более что процессы ведьм продолжались в Германии и во время его пребывания там.
Дело в том, что по мере развития «культа сатаны» в XV-XVII вв. Книга Иова стала подвергаться специфической и неожиданной для нынешнего читателя интерпретации. В Библии, в частности в Ветхом завете, искали подтверждений демонологическим увлечениям времени. Найти их было нелегко, так как невротический сатанизм совершенно чужд Священному писанию. Тогда, в соответствии с традицией аллегорического истолкования Библии, начались поиски образов, которые можно было бы принять за метафоры дьявола. Иногда в этой функции выступал Голиаф. Однако наиболее часто использовалась Книга Иова. В упоминаемых там Левиафане и Бегемоте видели аллегорическое описание дьявола или собственные имена его демонов-служителей. Показательно, что в Книге Иова действительно упоминается дьявол, но образ этот был слишком бледен, и его затмили красочные фигуры Бегемота и Левиафана. Инститорис и Шпренгер в «Молоте ведьм», проявив особый интерес к Книге Иова, утверждали: «Иов пострадал исключительно от дьявола без посредства колдуна или ведьмы. Ведь в то время ведьм еще не было». Здесь характерно утверждение, что ведьмы - совсем не исконное, вечное зло, а порождение новых, присущих именно данной эпохе, ухищрений дьявола.
Итак, образная система «Оды, выбранной из Иова» обращена к западной идеологической ситуации. Однако есть все основания утверждать, что это не снижало, а повышало ее актуальность с точки зрения внутрирусских проблем середины XVIII в. Вместе с усилением культурных связей с Западом и проникновением в Россию веяний барокко появились тревожные признаки того, что одновременно в Россию будет перенесена атмосфера страха и культурного невротизма, разрешившаяся на Западе кострами инквизиции. Угроза эта не была надуманной.
В начале XVIII в. в Москве началось следствие по делу Григория Талицкого, учившего, что Петр I - антихрист, и возвещавшего приход последних времен. Талицкий был подвергнут редкой и жесточайшей казни – копчению живым. Митрополит рязанский Стефан Яворский по распоряжению Петра опубликовал в 1703 г. обличительное сочинение против ереси Талицкого «Знамения пришествия антихристова и кончины века». Само написание книги было простым выполнением правительственного заказа (отношения между Петром и Стефаном Яворским в этот период были не просто лояльные, но вполне дружественные).
Яворский не ограничился теоретическими рассуждениями, - он выступил в качестве вдохновителя и практического организатора процесса Дмитрия Тверитинова и, несмотря на противодействие государственных инстанций, добился редкого в России приговора: сообщник Тверитинова Фома был сожжен в Москве как еретик.
В деятельности Яворского отчетливо чувствовалось католическое влияние. Не случайно монах Спасо-Каменского монастыря Варлаам говорил о нем: «Доведется де этому митрополиту голову отсечь или в срубе сжечь, что служит по латынски». Однако огненная борьба с дьяволом, как мы видели, не менее активно владела умами протестантского мира. В 1689 г. в Москве по настоянию пасторов Немецкой слободы был сожжен Квирин Кульман. Через окно в Европу тянуло гарью.
При жизни Петра I «Камень веры» не мог быть напечатан. Однако в 1728 г. он был выпущен в свет неслыханным для той поры тиражом - 1 200 экз. Второе издание появилось в 1729-м, а уже в следующем, 1730 г. - третье. Кроме того, по рукам циркулировали списки этого огромного сочинения. Наконец, в 1749 г. в Москве вышло еще одно издание. Эта беспрецедентная в условиях XVIII в. пропаганда идей костра и религиозной нетерпимости не могла не встревожить тех, кто стремился противопоставить страху - разум, а фанатизму – терпимость. Можно предположить, что именно издание «Камня веры» 1749 г. явилось толчком, оформившим замысел «Оды, выбранной из Иова».
Западная культура XVII в. создала не только атмосферу страха и нетерпимости, но и борцов с этой атмосферой. Выступивший на идейную арену отряд рационалистов направил свой основной удар против веры в дьявола как властелина мира. Спиноза, Декарт, Лейбниц создают образ мира, основанного на разуме и добре. В этом мире есть место богу - математику и великому конструктору, но нет места дьяволу. Вольтер на следующем этапе развития общественной мысли мог сколько угодно смеяться над наивным оптимизмом таких построений, но в свое время они были единственным средством рассеять зловещую атмосферу страха и очистить закопченное кострами небо Европы. В этом смысле «Теодицея» Лейбница с подзаголовком «О том, что бог добр» наносила сильнейший удар атмосфере охоты за ведьмами. Вряд ли является случайным совпадением, что «Теодицея» Лейбница появилась в 1716 г., а в 1720-е в Пруссии последовало королевское распоряжение о прекращении всех судов над ведьмами (в католической Германии они еще продолжались).
«Ода, выбранная из Иова» - своеобразная теодицея. Она рисует мир, в котором, прежде всего, нет места сатане. Бегемот и Левиафан, которым предшествующая культурная традиция присвоила облики демонов, вновь, как и в Ветхом завете, предстают лишь диковинными животными, самой своей необычностью доказывающими мощь творческого разума бога. Но и бог оды - воплощенное светлое начало разума и закономерной творческой воли. Он учредитель законов природы, нарушить которые хотел бы ропщущий человек. Бог проявляет себя через законы природы и сам им подчиняется. Это вполне соответствовало принципу Ломоносова-ученого: «Minima miraculus adscribenda поп sunt» (Малейшего не должно приписывать чуду). Слово «чудо» сохраняется лишь для обозначения еще не познанных законов Природы, удивительных для человека, но внутренне вполне закономерных:
Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса.
В подчиненном естественным и математическим законам мире господствует сформулированный Ломоносовым тезис: «Omnia quae in natura sunt, sunt mathematice certa et determinata» (Всё, что есть в природе, математически точно и детерминированно).
Идея мощи сатаны и даже самого его существования полностью исключалась, так же как исключались и случайность, хаотичность и все непредсказуемое.
«Оду, выбранную из Иова» нельзя рассматривать как изолированный акт, вне событий, составляющих ее историко-культурный контекст. Когда во второй половине 1750-х гг. в связи с полемикой вокруг «Гимна бороде» Ломоносова И.С. Барков писал:
Пронесся слух: хотят кого-то будто сжечь;
Но время то прошло, чтоб наше мясо печь, -
то слова эти звучали скорее надеждой, чем уверенностью. «Ода, выбранная из Иова» должна включаться, с одной стороны, в один ряд с научной антиклерикально-сатирической поэзией Ломоносова, а с другой - в ряд произведений, направленных против страха перед властью сил зла над миром. Общая установка борьбы с инквизиционным духом требовала замены атмосферы страха и веры в могущество зла убеждением в неколебимой силе разумного и доброго начала. Ренессансное сомнение в силе и благости Бога рикошетом возвысило Сатану, а трагическое мировосприятие барокко превратило его в подлинного «князя мира сего». Век разума необходимо было начать с оправдания добра, и Ломоносов заканчивает «Оду, выбранную из Иова» «теодицеей» - утверждением, что Бог «всё на пользу нашу строит».
Однако гарью тянуло и из лесов Сибири и русского Севера. Костры, сжигавшие ведьм в XVI – XVII вв., пылали по всей Европе – от Шотландии до Саксонии и от Испании до Швеции. Границы, разделявшие католическую и протестантскую Европу, для них не существовали. Однако граница, отделяющая Русскую землю от Запада, оказалась непроницаемой. Невротический страх перед ведьмами России был неизвестен, неизвестны были и инквизиционные их преследования. По эту сторону культурной границы пылали другие костры - костры самосожжений, гари старообрядцев.
Западный страх XVI - XVII вв. был предчувствием неотвратимости нового общественного порядка, который в массах народа осмыслялся как порядок сатанинский. Психология русского старообрядчества была другой: страха - спутника неуверенности и ожидания - не было. Было ясно, что конец света уже наступил, антихрист уже народился, времени уже не существует. Костер был попыткой обезумевшего от страха мира спасти себя, найдя то злокозненное меньшинство, которое причиняет ему гибель. Самосожжение - средство спасти себя от влияния и соблазна уже погибшего мира. Идеи были глубоко различны, но дымом от костров одинаково тянуло и с Запада, и с Востока.
Это придавало позиции Ломоносова и других русских рационалистов особую остроту: попытка трансляции в Россию западной барочной культурной ситуации, влекущей за собой угрозу появления русской инквизиции, сливалась перед судом Разума с «непросвещенными» гарями защитников старой веры. С точки зрения сознания, в основе которого лежала оппозиция: терпимость (просвещение) ® фанатизм (варварство), разницы между костром, зажженным инквизитором, и гарью, организованною старообрядческим законоучителем, не было.
Поэтому Ломоносов отнюдь не только из тактических соображений в своих сатирах типа «Гимна бороде» не различал защитников синодального православия и старообрядчества. Это же позволило ему, отвечая Зубницкому или нанося удары Тресотину-Тредиаковскому, в центр полемики выдвинуть вопрос о старообрядческих гарях, казалось бы, никакого отношения к делу не имеющий («Что за дым по глухим деревням курится...»). Для Ломоносова это была та же линия, что и в «Оде, выбранной из Иова». Мощь Природы и насмешка Разума утверждали образ мира, в котором и дьявол, и его приспешники-фанатики - «нравом хуже беса» - бессильны «наше мясо печь».
Для того чтобы сокрушить барочное манихейство, необходима была «реабилитация добра». Создаваемый при этом простой и ясный мир («Natura est simplicissima» (Природа предельно проста), - писал Ломоносов будет потом осмеян Вольтером, а эпоха романтизма воскресит культ демонизма. Однако предварительно его следовало убить. Ломоносов был с теми, кто уводил человека из расшатанного, внушающего ужас мира, отданного на произвол демонического безумия, в мир разумный и простой. Это давалось ценой упрощений, но только эти упрощения были способны освободить человека из-под власти Страха и его порождений: нетерпимости, фанатизма и жестокости. Дверь в век Просвещения была открыта.
Теодицея – религиозно-философское учение, которое согласовывает существование зла в мире с идеей всемогущества и благости Бога.