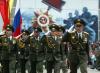Пафос поэзии Баратынского. Поиск языка поэзии мысли. Элегический мир поэта: его темы и стилистическое своеобразие. Сборник «Сумерки» — итог творческой биографии Баратынского. Судьба его поэзии в потомстве.
Пафос поэзии Баратынского
Поэт пушкинской эпохи, близко знакомый не только с Пушкиным, но и с поэтами его круга, нередко обращавшийся к темам, мотивам, образам их творчества как «формам времени», Евгений Абрамович Баратынский (нередко его фамилию пишут «Боратынский»; 1800—1844) внес в свою поэзию лермонтовские настроения, остро ощутив приближение эпохи общественных сумерек. Очарованию и иллюзиям эпохи гражданской экзальтации он противопоставил разочарование и безыдеальность эпохи безвременья.
В середине своего жизненного пути и почти у истоков творческого становления он пишет два стихотворения — «Муза» и «Мой дар убог и голос мой негромок...». Это не просто программные произведения или эстетические манифесты, а своеобразные автопамятники, попытка определить себя, свое место в истории и предугадать свою судьбу.
Не ослеплен я Музою моею:
Красавицей ее не назовут...
И далее, на протяжении всего 12-стишия, почти в каждой строке толпятся отрицательные частицы «не» и «ни», трезво фиксируя то, чего нет у Музы поэта. Но в этой череде отрицаний незаметно возникает лик героини, то, чем «поражен бывает мельком свет», — «ее лица необщим выраженьем». И в этом определении заключен весь пафос стихотворения — установка на оригинальность, не бросающуюся в глаза, но глубинно скрытую в тайниках поэтической мысли.
Пафос своей поэзии Баратынский афористически выразил в стихотворении «Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..». Уже первая строка девятистишия — два восклицания, выражающие устойчивость главного образа поэзии, почти ее мирообраза, связанного с приоритетом мыслительного начала и передающего состояние художника, ее «жреца». Сравнивая себя со скульптором, музыкантом, художником, со всеми творцами, тяготеющими к чувственным образам, к пластике форм, поэт-мыслитель боится, что не справится с воссозданием всего многообразия земной жизни:
Но пред тобой, как пред нагим мечом,
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная.
Поиск языка поэзии мысли, философской лирики — так можно определить направление творческих экспериментов Баратынского. Наследуя традицию русского любомудрия, открытия Веневитинова и Вяземского в области метафизического языка поэзии, именно Баратынский сумел облечь мысль в плоть чувства и поэтического слова, сделать мысль переживанием.
Жизнь Баратынского не богата внешними событиями. Большую ее часть он прожил в кругу своей семьи в подмосковном имении Мураново, проявив себя как рачительный хозяин и изобретатель в сфере архитектурно-инженерной деятельности. Но в ранней молодости было в его жизни событие, которого вполне хватило бы на сюжет романтической поэмы или даже драмы. Учась в привилегированном Пажеском корпусе, он вместе с друзьями, подражая шиллеровским «Разбойникам», совершил кражу, был исключен и разжалован рядовым. Затем последовала служба в Финляндии. Это не могло не сказаться на процессе взросления юного Баратынского: затронуто было самолюбие, пережито унижение солдатской жизни.
Самораскрытие, исповедальность, автобиографизм и даже автопсихологизм тем не менее почти отсутствуют в его поэзии финляндского периода, где он сформировался как поэт. Достаточно прочитать его довольно объемную элегию «Финляндия», чтобы почувствовать, как в ней личные эмоции, «я» певца чем дальше, тем больше погружаются в пространство раздумий о смене поколений, о бездне лет, о мгновении и вечности, о борении с судьбой. Утверждение личной свободы и независимости в потоке истории, перед «законом уничтоженья» и «обетованного забвенья» — вот сфера рефлексии лирического героя элегии.
«Не вечный для времен, я вечен для себя...», «Мгновенье мне принадлежит, // Как я принадлежу мгновенью!», «Я, невнимаемый, довольно награжден // За звуки звуками, а за мечты мечтами» — за этими философскими максимами открывается особое состояние поэта, которое можно обозначить как философскую экзальтацию и автоинтеллектуализм. Свою ссыльную жизнь он осмысляет не как превратности судьбы, а как философию судьбы, как вариант экзистенциальной философии.
Раскрытие мыслительного процесса в центре элегии «Финляндия». И сам топос, и образ ссыльного не больше чем рама для воссоздания этапов, стадий развития философской рефлексии. И если три первых строфы прочно запрятали «я» лирического героя, лишь иногда напоминая о нем притяжательными местоимениями «мой», «мне», «меня», то в заключительной, четвертой строфе «я» вырывается на просторы размышлений о времени и судьбе, провозглашая свое право на автоинтеллектуализм.
Мир элегий Баратынского
В мире философской рефлексии Баратынского бал правит элегия. Еще Пушкин, прочитав поэму «Пиры», написанную в финляндском уединении, дал замечательную характеристику ее автора: «Певец пиров и грусти томной». Если первая часть характеристики — отражение содержания, то вторая — фиксация парадоксального сочетания «разгулья удалого» и «сердечной тоски». Грусть — отзвук семантики жанра элегии: «песня грустного содержания». Необычное на первый взгляд определение «томная» лишено всякой иронии, присущей последующей его семантике, связанной с понятием манерности и искусственности. «Грусть томная» — переходное состояние духа, выражающее духовное томление и раздвоенность сознания. Не случайно тот же Пушкин сравнил Баратынского с шекспировским Гамлетом, тем самым подчеркнув столь характерное для поэта настроение и присущий его мышлению постоянный процесс рефлексии.
Уже названия многих элегий Баратынского: «Ропот», «Разлука», «Уныние», «Разуверение», «Безнадежность», «Признание», «Оправдание», «Ожидание», «Смерть», «Ропот» — фиксируют определенное состояние духа. Эти глагольные субстантивы передают движение мысли и чувства, выраженное в слове-понятии. Уже в одной из ранних элегий «Ропот» поэт признается: «Всё мнится счастлив я ошибкой, // И не к лицу веселье мне». И тут же с психологической точностью определено состояние «больной души»: «С тоской на радость я гляжу...»
Парадоксы настроений — следствие парадоксов мысли. Каждая элегия раздвигает пространство интеллектуальной рефлексии. И «песня грустного содержания» в большом контексте лирики Баратынского становится историей человеческих чувств, монологом о жизни, элегией-думой. Когда читаешь элегию «Череп», то не покидает ощущение, что это монолог нового Гамлета, русского Гамлета.
Одна из важнейших философских тем элегий Баратынского — тема борения человека с судьбой. То, что в балладах Жуковского было погружено в атмосферу экстремальных, фантастических ситуаций и сюжетов мировой поэзии, в элегиях Баратынского становится признаком современности, духом времени. «Рок суровый», «судьбина», «судьба», «рок злобный», «фортуна слепая», «жребий», «тяжелая судьба», «судьбины гнев», «всевидящая судьба» и т.д. — вся эта палитра определений наполняется рефлексией современного человека. Экзистенциальный подтекст этой темы связан и с гамлетизмом поэта, для которого, как и для другого его современника Лермонтова, «порвалась цепь времен». Сомнение в общественных ценностях, в счастье и благополучии подчеркнуто обилием вводных слов: «быть может», «кажется», «чудится», «мнится», передающих призрачность реальности. Другой особенностью метафизического стиля лирики Баратынского является обилие слов с приставками «без — бес» и «раз — рас»: бесплодный, бездейственный, бесчувствие, безнадежность, безочарование, безвеселье, безжизненный, безмолвный, безмятежный, беспокойный и разуверение, разлука, размолвка, расставание, расслабление, разочарование, развеять, рассеивать, раздельный и др. Неполнота чувств и духовного бытия зафиксирована словами с первой приставкой, момент душевного разлада, распада духовных и коммуникативных связей отражен во второй группе слов. А в своей совокупности все эти слова-концепты передают драматизм и напряженность существования, философию экзистенциального выбора и состояние духовного и общественного безвременья.
Онирическое пространство элегий Баратынского не уход от жизни в царство сладких снов, хотя в своей программной элегии, ставшей классическим романсом, «Разуверение» поэт заявляет: «Я сплю, мне сладко усыпленье...», а усталость и болезнь души, плата за иллюзии. В стихотворении «Дорога жизни» эта сновидческая философия сформулирована с наибольшей отчетливостью:
В дорогу жизни снаряжая
Своих сынов, безумцев нас,
Снов золотых судьба благая
Дает известный нам запас:
Нас быстро годы почтовые
С корчмы доводят до корчмы,
И снами теми путевые
Прогоны жизни платим мы.
В послании «Богдановичу», осмысляя пути современной поэзии, свое место в ней, с афористической точностью в пределах одного стиха и одного предложения Баратынский формулирует свое творческое кредо: «Что мыслю, то пишу». Пространство мысли в элегиях Баратынского — это комплекс философских тем, экзистенциальных проблем, метафизического языка. Но главное, что всё это слито в единство, спаяно силой поэтического чувства.
Вот лишь один пример — стихотворение «Разлука». Восьмистишие как музыкальная октава, три предложения как философская триада фиксируют процесс развития чувства-мысли. Заглавие и первое слово элегии, существительное и глагол как звенья одной цепи через приставку «раз — рас» воссоздают ситуацию разлуки-расставания. И в этой ситуации уже заложен драматизм и напряженность разрыва с прошлым, с иллюзиями, столкновения жизни и мига, очарования и разочарования. Первое звено — лишь звено общей цепи, где разрыв чувств и состояние расставания, философия разлуки не умозрительные абстракции, а мучительное воссоздание глубинной связи прошлого и настоящего, счастья и несчастья, любви и ее утраты. Каждое слово-понятие первого предложения не просто повторяется, но и усиливается через тавтологические, анафорические приемы: на миг — на краткий миг, словам любви внимать не буду я — не буду я дышать любви дыханьем. Противительно- отрицательные конструкции второго предложения (всё имел — лишился вдруг всего, начал сон — исчезло сновиденье) обостряют эти повторы и придают им бытийный смысл. Последнее предложение как стон и реквием по утраченному (восьмикратное «о» и двойное «у» аллитерационно подчеркивают это состояние) — заключительное звено в цепи разлуки, каждый этап-период которой не разъединяет, а соединяет в воспоминании, в рефлексии расстающихся, но еще не расставшихся.
Мысль, ставшая переживанием — так можно определить своеобразие поэтической рефлексии Баратынского. Элегии поэта воссоздают сам процесс развития мысли, ее текучесть и изменчивость. «Разлука», как и многие другие произведения Баратынского, имеет две редакции: 1820 и 1827 гг. В первой редакции текст был вдвое больше (16 стихов) и пронизан вопросами, которые тормозили развитие чувства-мысли. Оставив почти без изменения последнее четверостишие, поэт отбросил начальные 12 стихов, заменив их столь же емким четверостишием. Два четверостишия соединились как единое целое, сконцентрировав в себе атмосферу разлуки и ее переживание. Тексты Баратынского живут во времени, зримо передавая подвижность мысли поэта, его поэтическое взросление.
Анализ сборника «Сумерки» Баратынского
Два прижизненных сборника стихотворений Баратынского 1827 и 1835 гг. не только вехи его творческой биографии, но и этапы его становления как поэта-мыслителя. На смену жанровому принципу приходит тенденция к обозначению внутренней связи стихотворений, выделению своеобразных «тематических сгустков», что позволяло создать «верный список впечатлений». Здесь, по замечанию исследователя, «впервые применены художественные приемы, которые более целенаправленно были использованы Баратынским в «Сумерках»».
Само заглавие этого последнего и итогового сборника 1842 г. глубоко концептуально. В отличие от романтической традиции «вечеров» и «ночей», ориентированных на особую символику времени суток, состояние переходности и духовного прозрения, у Баратынского «сумерки» не столько хронотопное понятие, сколько духовное и душевное состояние. Как и в «Стихотворениях Михаила Лермонтова» (любопытно, что в обоих сборниках по 26 произведений), в центре сборника Баратынского — образ эпохи безвременья, своеобразных сумерек эпохи.
Судьба поэта и человека в эпоху железного века (именно этот образ открывает сборник «Век шествует путем своим железным») определяет раздумья автора «Сумерек». Уже в посвящении к сборнику, стихотворении «Князю Петру Андреевичу Вяземскому» вопрос о жизни и судьбе становится определяющим. «Куда вы брошены судьбами...», «Что вам дарует Провиденье?», «От вас отвлечь судьбы суровой // Удары грозные хочу...» — такая концентрация экзистенциальных мотивов не кажется случайной.
Образ всевидящей судьбы, получившей свое кульминационное развитие в элегии «Признание» («Даем поспешные обеты, // Смешные, может быть, всевидящей судьбе»), в «Сумерках» уже не только образ частной жизни, но и общественно-философское состояние. Философия современного бытия рождает особую образную концентрацию слов и понятий с семантикой безжизненности, бессмысленности, бесплодности: «немая глушь», «безлюдный край», «бесплодные дебри», «бессмысленная вечность», «безжизненный сон», «венец пустого дня», «...тощая земля // В широких лысинах бессилья», «грядущей жатвы нет», «мертвящий душу хлад». Каждое стихотворение сборника — звено в этой общей поэтической картине «дряхлеющего мира».
Поэт (а инициальное стихотворение имеет символическое заглавие «Последний Поэт») в этом мире лишен отклика, отзыва. Образ «уха мира» вбирает в себя всю палитру немоты и глухоты, безответности. «Но не найдет отзыва тот глагол, // Что страстное земное перешел», «Но нашей мысли торжищ нет, // Но нашей мысли нет форума!..» — эти поэтические афоризмы воссоздают состояние трагического одиночества поэта и человека. «Я дни извел, стучась к людским сердцам <...> Ответа нет!» — констатирует поэт уже в конце своего жизненного пути.
Стихотворение «Бокал», сопрягающее память о вакхических песнях, «братии шумной» и состояние одиночества, «одинокого упоенья», формирует образ «пророка в немотствующей пустыне». И этот пророк не пушкинский, к которому обращен «Бога глас» «Глаголом жги сердца людей», а лермонтовский, который тоже живет в пустыне, заброшен каменьями и слышит вдогонку голос толпы: «Глупец, хотел уверить нас, // Что бог гласит его устами!»
Немотствующая пустыня — этот общественно-философский топос, передающий одиночество, немоту (а согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля вообще лишенный речи), — отражает трагедию разрыва человеческих связей, коммуникативных отношений. В этом топосе безмолвия и одиночества леймотивным становится мотив тоски. «Тоскующие души», «изнывающая тоской», «вопль тоски великой» — не просто психологические состояния, но и субстанциальные понятия, формирующие бытийную картину мира.
«Последний Поэт» — «Недоносок» — «Бокал» — «Осень» — «Рифма» — эти четко номинированные тексты, созданные в разные годы, приобрели в сборнике внутреннюю связь. Занимая в книге «песнопений» 2, 8, 13, 24, 26-ю позиции, они скрепляют философскую и поэтическую рефлексию прежде всего образом времени. «Век шествует путем своим железным», «Блестит зима дряхлеющего мира», «Клич враждующих народов», «Гром войны и крик страстей», «Роковая скоротечность», «О бессмысленная вечность!», «Пошлой жизни впечатленья», «В немотствующей пустыне», «Зима идет, и тощая земля // В широких лысинах бессилья», «Но в нем тебе грядущей жатвы нет!» — каждая из этих характеристик и все они вместе создают картину эпохальных сумерек. Не случайно в «Последнем Поэте», по существу, открывающем сборник, и в «Рифме», его венчающем, возникает образ золотого века античности как антитезы железного века и одновременно воссоздано его разрушение.
Мир сумерек в книге Баратынского экзистенциален: в нем борение с судьбой («В день ненастный, час гнетучий // Грудь подымет вздох могучий...»), самоопределение («Где, другу мира и свободы, // Ни до фортуны, ни до моды, // Ни до молвы мне нужды нет...», жизненная позиция («Ныне мысль моя не сжата // И свободны сны мои...»), эстетическое кредо («Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!..»). Он антропологичен: за судьбами последнего Поэта, Недоноска, отрока сладкогласного, художника-мыслителя, бедного старца, скульптора, Алквиада, Ахилла открывается история страстей человеческих и формируется оригинальный образ героя-антигероя нашего времени. Поэт, не преклонивший «гордой главы», «боец духовный, сын купели новых дней», подобный Ахиллу, отрок сладкогласный, полный весенних предчувствий, скульптор, устремивший свой пламень и полет к сотворению красоты, — каждый из этих героев открывает пространство мысли, противостоящей мертвящему душу «хладу». И тем не менее одно из программных и центральных стихотворений сборника — «Недоносок» отражает трагедию метаний современного человека, его недовоплощенность в окружающем мире.
Подобно лермонтовскому Демону, Недоносок «из племени духов», наделенный крыльями, подобно ему он мечется между небом и землей. Но на смену лермонтовскому герою-титану приходит «бедный дух», «ничтожный дух», который «мал и плох». Так же, как и Лермонтов, Баратынский очеловечил своего антигероя: в его «крылатом вздохе», «унылом вопле», «изнывающей тоске» он раскрыл власть времени и судьбы над миром человеческого бытия.
Сборник «Сумерки» — замечательный опыт философской лирики, поистине лебединая песня русского романтизма. «Острый луч» мысли вскрывает субстанциальные проблемы бытия и времени, но облекает их в плоть глубоких, драматических переживаний. Две «Осени» Пушкина и Баратынского глубинно, генетически взаимосвязаны. В них подспудно звучит один и тот же вопрос: «Куда ж нам плыть?».
Поиск нового мира как выход из духовного кризиса отчетливо обозначился в последних стихотворениях Баратынского: «На посев леса», «Пироскаф», «Дядьке-Итальянцу», пронизанных надеждами увидеть «Элизий земной». Но судьба сыграла с поэтом злую шутку: увидев Италию, Неаполь, с которым было связано популярное изречение «Увидеть Неаполь — и умереть», 29 июня 1844 г. Е.А. Баратынский скоропостижно скончался именно в Неаполе.
«Поэзия таинственных скорбей» — так сам поэт в одном из итоговых своих стихотворений «На посев леса» обозначил дух своего творчества. Но ее пафос — в поиске новых путей лирики, в формировании языка поэзии мысли. И эту эстафету подхватит не только ближайший его современник и родственник Ф.И. Тютчев, но и всё направление русской философской поэзии XX в. — от А. Блока до И. Бродского.
Стихотворение «Звезда» было написано в 1824 году. Оно повествует о ночном небе, в котором сосредоточено множество светящихся звёзд. Их настолько много, что предлагается выбрать какую-то одну и дать ей название. Автора завораживает такая атмосфера, он обольщается их сиянием.
Герой произведения сравнивает звёзды с неким разумом, который также проявляет себя к человеку. В своих строках Баратынский много говорит о том, что человека связывает со звёздами, как их провожают и встречают, про то, как звёзды шлют ответный взор. Звёздами невозможно наслаждаться, ими можно только восхищаться, и автор это отчётливо замечает. Это стихотворение завораживает своей непредвзятостью.
Анализ стихотворения Звезда по плану
Возможно вам будет интересно
- Анализ стихотворения Ф. И. Тютчеву (Мой обожаемый поэт…) Фета
Отношения между Ф.И.Тютчевым и А.А.Фетом можно назвать не простым знакомством. Фет преклонялся перед творчеством Федора Ивановича, считая его своим учителем. Много общего в тематике произведений обоих поэтов
- Анализ стихотворения Пушкина Цветок
Это стихотворение Пушкина, написанное в тридцатых годах девятнадцатого века, относят к философской лирике. Впрочем, иногда и к любовной. Почему так? Речь здесь идёт об одном маленьком цветке
- Анализ стихотворения Есенина Пороша 6 класс
Автор очень любил в своих стихотворениях описывать великолепие родных просторов. Строки наполнены теплотой, чуткостью, восторгом. И это естественно, ведь у поэта было очень тонкое ощещения восприятия. Он с точностью мог подметить все, что его окружал
- Анализ стихотворения Еще вчера, на солнце млея Фета
Афанасий Фет является приверженцем искусства, которое принято считать чистым, его творчество стало ярким доказательством присутствия импрессионизма и на литературном поприще.
- Анализ стихотворения Сияла ночь. Луной был полон сад Фета
Изучив стихотворение «Сияла ночь...» я считаю, что лирический герой в нем является тонкой и чувствительной, а так же максимально искренней личностью. Это отчетливо видно в его желаниях, ведь он хочет жить
/ / / Анализ стихотворения Баратынского «Муза»
Большинство поэтов и литераторов уверены, что талант сочинять стихотворения, составлять их в красивые, мелодичные четверостишия – это не способность автора, а вдохновение музы, которая посещает большинство талантливых людей. Такого мнения придерживался и Баратынский.
У литературных творцов девятнадцатого века в роли муз выступали женщины, которых они любили, которыми они восхищались. И, на творческом пути Баратынского также были такие прекрасные особы, которые вдыхали в его новые идеи.
Однако, в 1829 году поэт решил создать стихотворную работу, которую он посвящал настоящей музе – капризной и привередливой. Ведь чаще всего, порывы к стихописанию были эмоциональными, непредвиденными, стремительными.
В своей работе автор говорит о том, что его муза не поражает внешней привлекательность. Однако для Баратынского внешний облик ничего не значил, не имел значения. Его муза лишена и природной гармонии, грации. Она не носит модных шляпок, не собирает за собой толпы поклонников.
К тому же, Баратынский пишет о том, что у его вдохновительницы нет особых дарований, талантов. Она проста, она может вызвать у окружающих даже разочарование. Но для поэта, его муза наилучшая. Глядя на нее мельком, он поражается ее спокойным речам, необычному выражению лица.
Именно так он описывает, оценивает свою мифическую музу. Баратынский не пытается достигнуть уровня Пушкина. Он понимает, что далек от модных и знаменитых литературных тенденций. И все таки, он надеется на то, что читатель выскажет свою похвалу по отношению к его творчеству.
(правильнее – Боратынского, 1800 – 1844) сложились так неудачно, что в течение всей юности его, – в эту пору, когда складывается душа человеческая, он знал немало горя. Об этой безотрадной юности не раз вспоминает он в своих стихах – она и определила все миросозерцание поэта на всю его жизнь. Долгое пребывание в Финляндии, среди угрюмой и суровой природы, только укрепило эту тоску в его душе. (См. также статью Творчество Баратынского - кратко .)
Портрет Евгения Баратынского, 1826
Между тем, Баратынский не был пессимистом от природы: его стихи доказывают, что он знавал иногда светлые минуты радости, когда счастье улыбалось ему, когда он, умиротворенный, сливался с природой. Но эти моменты просвета редки, и не они определяют основное существо его мировоззрения. Вот почему можно с полным правом отнести его к типичным поэтам-«скорбникам». Он сам однажды указывает, что настроения «мировой скорби» – удел писателей его времени:
В печаль влюбились мы. Новейшие поэты
Не улыбаются в творениях своих…
У всех унынием оделося чело,
Душа увянула и сердце отцвело!..
По его мнению, Жуковский виноват в том, что русские поэты стали грустить. Этим указанием он определяет свою зависимость от Жуковского, – и, действительно, многими сторонами своего творчества Баратынский примыкает к нему: его скорбь спокойная, безоблачная, хотя и глубокая, он примиряется со всем в жизни и, полный доверенности к Провидению, всеми помыслами своими стремится «туда», за предел жизни. Смерти он поет хвалебный гимн:
Смерть дщерью тьмы не назову я
И, раболепною мечтой
Гробовый остов ей даруя,
Не ополчу её косой.
О дочь верховного Эфира!
О светозарная краса!
В руке твоей олива мира,
А не губящая коса.
……………………
Недоуменье, принужденье –
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье,
Ты разрешенье всех цепей.
Баратынский говорит, что люди – «нужды непреклонной слепые рабы, рабы самовластного рока» – томятся на земле потому, что всем «памятно небо родное», и все стремятся «неясным желанием», «жаждой счастья» вернуться в тот мир потусторонний, откуда вырваны были они на время на землю (ср. лермонтовское стихотворение «Ангел»). Вот почему он жаждет «ночи гробовой».
Евгений Баратынский
В юности своей, несмотря на все бремя невзгод, Баратынский верил в возможность счастья «здесь», – на земле; он порой знал «живых восторгов легкий рай», в прежние дни поддавался «обольщениям», – но под тяжестью горя и разочарований «задумалась его радость», а потом безвозвратно улетели «сны золотые» его юности: тогда подошел к нему «чадный демон» скептицизма, – и на грудь поэта –
Дума роковая
Гробовой насыпью легла.
«Светлый мир» показался «уныл и пусть»; век его сделался «уныл», жизнь обратилась в «холодный, тяжкий сон», – он почувствовал себя, как «во гробе». Но он не возненавидел людей, не стал роптать на судьбу и Бога, – он со всем примирился –
Меня тягчил печалей груз,
Но не упал я перед роком, –
Нашел отраду в песнях Муз,
И в равнодушии высоком.
Вооруженный этим «равнодушием», он все прощал и во всем находил смысл. Он говорил –
Страданье нужно нам:
Не испытав его, нельзя понять и счастья!
Он говорил, что и волнения имеют смысл:
Жизнь для волненья дана: жизнь и волненье одно.
………………
Нам надобны к страсти, и мечты,
В них бытия условие и пища.
……………
Пусть радости живущим жизнь дарит,
А смерть сама их умереть научить.
Такое высокое, философское «бесстрастие» настолько отодвинуло его от жизни, что он мог свой глубокий пессимизм сочетать с любовью высокой, «любовью добра и красоты»... Правда, и эта ненависть к жизни, и эта любовь потому уживаются, что они совершенно отвлеченны, бесстрастны, – в них много ума, и нет чувства.
В стихотворении «Две доли» Баратынский говорит, что два пути, по воле Провидения, предоставлены –
На выбор мудрости людской;
Или надежду и волненье,
Иль безнадежность и покой!
Он испробовал оба пути и решился идти вторым. Себя он не раз выставляет «певцом бесстрастия», тишины и покоя –
Я не надеюсь, не страшуся.
... Философ я…
... Я только пел мои печали,
Холодные стихи дышали
Души холодною тоской
Дальше такого холодного квиетизма идти некуда – Баратынский оказался до такой степени далеким от жизни, что для его «духа нет оков» на земле, зато и поэзия его чужда интересов времени: его язык «немногим избранным понятен», как он сам это утверждал, потому и к «черни» он относится без той страсти, которая так возмущала Пушкина в его стихотворениях.
В стихотворении «Бесенок» Баратынский так характеризует свое отношение к толпе:
Когда в задумчивом совете
С самим собой из-за угла
Гляжу на свет и, видя в свете
Свободу глупости и зла,
Добра и разума прижимку,
Насильем сверженный закон,
Я слабым сердцем возмущен,
– тогда этот бесенок –
Проворно шапку-невидимку
На шар земной набросил он...
...Прощай, владенье грустной были,
Меня смущавшее досель:
Я от твоей бездушной пыли
Уже за тридевять земель!
Преобладающей силой души Баратынского был разум, – недаром Белинский назвал его «поэтом мысли», а Пушкин называл «Гамлетом ». Преимущественно с точки зрения разума смотрел он на жизнь и на смерть и холодным спокойствием, благожелательным ко всему, одарил его этот разум...
В стихотворении «Истина» он сам говорит, что «разум» определил всю его жизнь, дал содержание его миросозерцанию. «Истина» явилась к ному в виде прекрасной и гордой богиня и сказала:
…Захочу
И, страстного, отрадному бесстрастию
Тебя я научу!
Пускай со мной ты сердца жар погубишь,
Пускай, узнав людей,
Ты, может быть, испуганный разлюбишь,
И ближних, и друзей.
Я бытия все прелести разрушу,
Но ум наставлю твой
Я оболью суровым хладом душу,
Но дам душе покой...
Он анализировал мир людской и увидел в жизни человеческой «Пир нестройный», где –
Презренный властвует, достойный
Поник гонимой головой.
Несчастлив добрый, счастлив злой!
Но во всем этом видимом неустройстве скрыта великая мудрость Творца.
Обращается ли Баратынский к «человеку» – он видит, в чем трагизм его двойственного и бессильного существа –
Я – из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И. едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.
Как мне быть? Я мал и плох,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землёй и небесами!
Особенно часто сопоставляет Баратынский ничтожество и бессилье человека со стихийной мощью природы. В стихотворении «Последняя смерть» он рисует картину смерти человечества. Человечество дряхлеет, физически и нравственно, вырождается и, наконец, вымрет окончательно. Тогда «державная природа» опять безраздельно будет царствовать над безлюдною землей, облачившись «в дикую порфиру древних лет».
По мнению Баратынского, раньше первобытный человек жил одной жизнью с природой; развитие разума оторвало его от природы («Приметы »), – и, вместо родственной связи, между ними возникла вражда, которая окончится победой природы.
Пока человек естества не пытал
Горнилом, весами и мерой,
По-детски вещаньям природы внимал,
Ловил её знаменье с верой;
Покуда природу любил он, – она
Любовью ему отвечала...
……………………………
В пустыне безлюдной он не был один,
Не чуждая жизнь в ней дышала.
Но, чувство презрев, он доверил уму,
Вдался в суету изысканий, –
И сердце природы закрылось ему,
И нет на земле прорицаний!
Из всего вышесказанного видно, что «мировая тоска» у Баратынского приняла совершенно особую окраску: в его стихах эта скорбь потеряла всякую тень сентиментализма и романтизма , перестала быть минутным настроением, как у Пушкина, а сделалась постоянным философским миросозерцанием.