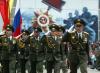Стихотворение «Три пальмы».
Восприятие, толкование, оценка
Стихотворение «Три пальмы» было написано М.Ю. Лермонтовым в 1839 году. В том же году оно было опубликовано в журнале «Отечественные записки». Тематически произведение связано с такими стихотворениями, как «Песнь араба над могилою коня» В.А. Жуковского, «Подражания Корану» А.С. Пушкина. Однако произведение Лермонтова в определенной степени полемично по отношению к творениям его предшественников.
Мы можем отнести стихотворение к философской лирике, с элементами пейзажа. Стиль его — романтический, жанр обозначен самим автором в подзаголовке — «восточное сказание». Исследователи отмечали также черты жанра баллады в этом произведении — драматизм сюжета при общем лаконизме стиля, небольшой объем стихотворения, наличие пейзажа в зачине и в концовке, лиризм и музыкальность произведения, наличие трагически неразрешимого.
Композиционно мы можем выделить в стихотворении три части. Первая часть — это зачин, описание чудного оазиса в пустыне: «три гордые пальмы» с роскошными, сочными листьями, студеный ручей. Вторая часть включает в себя завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. «Гордые пальмы» недовольны своей участью, они стали роптать на Бога и собственную судьбу:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»
Однако роптать на судьбу, по мысли поэта, нельзя. Пальмы получили то, чего так жаждала их душа: к ним пришел «веселый» караван. Природа предстает здесь доброй и гостеприимной по отношению к людям:
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.
Люди же оказываются жестоки и бессердечны по отношению к «питомцам столетий». Не замечая красоты мощных, сильных деревьев, они демонстрируют свое утилитарное, прагматичное отношение к природе:
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.
Поэт здесь воспринимает природу как живое существо. Картина гибели пальм страшна, ужасна. Мир природы и мир цивилизации трагически противопоставлены у Лермонтова. Третья часть стихотворения резко контрастирует с первой:
И ныне все дико и пусто кругом —
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит — Его лишь песок раскаленный заносит Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
В финале стихотворения мы вновь возвращаемся в то место, где росли «три гордые пальмы», где бьет тот же студеный родник. Таким образом, мы имеем кольцевую композицию, первая и третья части в которой антитетичны.
Стихотворение имеет разнообразные трактовки в литературоведении. Общепринятым является анализ произведения как аллегорической философской притчи, смыслом которой является расплата человека за ропот на Бога, на собственную судьбу. Цена этой гордыни, по мысли Лермонтова, — собственная душа.
Другая трактовка связывает образ трех прекрасных пальм с мотивом загубленной красоты. Та же тематика присутствует у М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Спор», в балладе «Морская царевна». По мысли поэта, красота в «Трех пальмах» погублена именно потому, что стремилась соединиться с пользой. Однако это в принципе невозможно, недостижимо.
Также исследователи отмечали религиозно-христианскую символику данного стихотворения. Так, безмятежный, идиллический пейзаж в начале стихотворения напоминает нам о райском саде Эдеме (согласно легенде, он находился на месте аравийской пустыни). Ропот пальм на собственную участь — не что иное, как грех. Расплата за грех — хаос, внесенный в мир покоя и гармонии. Соприкосновение трех прекрасных пальм с людьми — это проникновение нечистой силы, бесов во внутренний мир человека, который заканчивается гибелью его души.
Стихотворение написано четырехстопным амфибрахием. Поэт использует различные средства художественной выразительности: эпитеты («три гордые пальмы», «роскошные листья», «звучный ручей»), олицетворение («Приветствуют пальмы нежданных гостей»), анафору и сравнение («И конь на дыбы подымался порой, И прыгал, как барс, пораженный стрелой,
Читать стих «Три пальмы» Лермонтова Михаила Юрьевича стоит всем любителям притч. Это произведение, написанное в 1838 году, имеет собственный глубокий и философский смысл. Основными персонажами стихотворения становятся сами пальмы, которые находятся в пустыне. Стихотворение затрагивает религиозные темы и проблему взаимоотношений человека с природой. Такие вопросы появляются во многих произведениях Лермонтова. Он всегда пытался найти ответы на самые странные загадки окружающего мира. А творчество использовал, как способ общения с собой, попытку размышлять и предполагать, возможность выразить мысль, высказать мнение.
Текст стихотворения Лермонтова «Три пальмы» передает суть того, что этот оазис является местом, недоступным для живых существ. Казалось бы, оно создано для того, чтобы стать спасением для потерявшегося путника. И пальмы взывают к Богу с этими очевидными мыслями. Тот, словно услышав их, отправляет к оазису людей, не способных оценить невероятную красоту этого места. Пальмы теряют свою красоту, становясь простым топливом. Оазис разрушен, на его месте остается лишь пустыня, такая, какой она должна быть. Такое болезненное воздействие человека на природу вызывает грусть и тоску. Действительно, люди не всегда могут порадоваться тому прекрасному, что дает им окружающий мир. Они думают о чем-то другом, земном, не столь важном. Гордыня мешает им увидеть все так, как оно есть на самом деле. Она застилает взор невидимой пеленой, закрывая все поистине прекрасное и невероятное.
Одним из основных вопросов, поднятых в произведении, является религиозный момент. Автор словно намекает на то, что не всегда прошения, направленные к Богу, приведут к осуществлению мечты. Многие не понимают, что их грезы могут принести лишь боль и разочарования. Не всегда цель оправдывает средства. Гордыня, которая осуждается в произведении, зачастую приводит к полному саморазрушению. Лермонтов пытается уберечь читателя от попыток получить нечто недосягаемое. Всегда нужно помнить, что мечты могут осуществляться, поэтому мыслить нужно правильно, и не стоит забывать о последствиях. Такой философский посыл несомненно следует учить на уроках литературы в старших классах. Полностью произведение можно прочесть онлайн или скачать на нашем сайте.
(Восточное сказание)
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.
И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
И стали три пальмы на бога роптать:
“На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!”
И только замолкли – в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонком раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали…
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.
И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.
Вот к пальмам подходит, шумя, караван:
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро их поит студеный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли до утра их огнем.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван;
И следом печальный на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.
И ныне все дико и пусто кругом –
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит –
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
В
песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый под сенью зеленых листов
От знойных лучей и летучих песков.
И многие годы неслышно прошли...
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой,
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!»
И только замолкли - в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров,
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали...
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.
И конь на дыбы подымался порой,
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По пле́чам фариса вились в беспорядке;
И, с криком и свистом несясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.
Вот к пальмам подходит, шумя, караван,
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины звуча налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей,
И щедро поит их студеный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их со́рвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван,
И следом печальным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный.
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.
И ныне всё дико и пусто кругом -
Не шепчутся листья с гремучим ключом.
Напрасно пророка о тени он просит -
Его лишь песок раскаленный заносит
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.