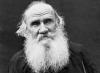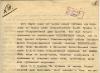Наполеоновская армия весной 1812 года выступила в поход против России. От исхода этой войны зависела участь не только России, но и многочисленных европейских государств, ибо все они находились в прямой или косвенной зависимости от наполеоновской Франции.
Казалось, что ничто не может остановить армию Наполеона. Однако поход в Россию, начатый непобедимым полководцем, закончился, как известно, невиданным в истории разгромом. Многотысячная армия Наполеона, вторгнувшаяся в пределы России, была начисто уничтожена. Лишь несколько тысяч солдат и офицеров вместе с Наполеоном спаслись бегством.
Война 1812 года, закончившаяся крушением наполеоновской империи и радикальным изменением всей политической обстановки в Европе, оставила неизгладимый след в мировой истории. До сих пор по многим вопросам истории эпопеи 1812 года ведется полемика. Поэтому эта тема остается актуальной в истории. Ныне история наполеоновского нашествия на Россию насчитывает тысячи работ советских и российских историков.
Дореволюционная историография чётко делится на два главных направления: охранительно-консервативное, старательно подчёркивавшее «отечественность» войны в смысле единения всех сословий вокруг престола и либеральное, которое не настаивало на единении всех слоёв общества.
Советская историография. разработка темы начинается с 1920-х годов. М.Н.Покровский называет агрессором Россию, даёт он низкую оценку российской армии, а патриотизм русского народа он считал лишь защитой своего имущества от мародеров. Решительный сдвиг в области изучения истории наполеоновских войн и событий Отечественной войны в 1812 года наблюдается в середине 30-х годов, Е.В. Тарле «Наполеон», где академик даёт высокую оценку талантам Наполеона, Тарле очень четко определил планы Наполеона, направленные к тому, чтобы подчинить Россию экономически. Главным препятствием на пути продвижения наполеоновских войск, как он показал, явилась необычайная сила сопротивления народов России.
ВОВ историография была направлена на пропаганду опыта прошлой борьбы. В этот период Война 1812 года воспринимается как героическая борьба народов России против наполеоновского нашествия, также большое внимание уделяется роли полководцев, в том числе М.И. Кутузову. Большое внимание советские историки уделяли освещению Бородинского сражения. Крайне слабо разрабатывались экономический, дипломатический и идеологический аспекты войны, допускались ошибки и неточности в освещении ряда событий. Исследования отставали от имеющейся документальной базы. До конца сов. периода. господствовала концепция, согласно которой внешняя политика России носила миролюбивый характер и была направлена исключительно на сдерживание наполеоновской гегемонии и против устремлений французского императора к мировому господству.
С 1962 года начинается разработка роли экономического фактора в войне 1812 года Л.Г. Бескровный смог всесторонне показать военные и экономические возможности России, опровергнув миф о плохой оснащённости русской армии. С ним согласен и Л.П. Богданов. Стратегический план вторжения Наполеона в Россию специально не изучался. Тем не менее, в литературе прочно утвердилось мнение о том, что задолго до вторжения французский полководец принял решение овладеть Москвой, с этим не согласен А.З.Манфред. По численности войск до сих пор приводятся противоречивые данные.
В 60 - 80-е годы пробел в разработке первого этапа войны в основном был восполнен. Наиболее обстоятельно он освещен в монографиях Л.Г. Бескровного, П.А. Жилина, И.А. Троицкого.
Одним из спорных вопросов истории войны 1812 года является ее периодизация. Л.Г. Бескровный делит войну на два этапа, считая рубежом Бородинскую битву. И.И. Ростунов предложил трехэтапную периодизацию: начало войны до Тарутина, пребывание в Тарутине и переход к преследованию противника до окончательного разгрома наполеоновской армии.
Вышедшие с начала 1990 гг. работы посвящены преимущественно частным вопросам истории войны 1812 года, и если раньше Российская империя представала жертвой в вопросе о причинах войны, то теперь преобладает мнение, что война была вызвана комплексом политических и экономических противоречий между Россией и Францией, столкновением их интересов в Германии, Польше, на Ближнем Востоке. Не отрицается откровенное стремление Наполеона к гегемонии в Европе, однако при этом особо отличается очевидное желание Александра I добиться реванша за военные поражения 1805-1807 годов. Также несостоятельным называется мнение о внезапности нападения.
Причины войны:
1. торгово-экономические. Россия отказалась участвовать в континентальной блокаде Англии, чтоб не наносить собственной торговле.
2. польский вопрос. Наполеон поддерживал стремление Поляков к независимости, что не устраивало Россию.
На стыке XVIII-XIX вв. наполеоновская Франция успешно провела целую серию завоевательных войн, ее армия демонстрировала самое современное военное искусство, была многочисленной и боеспособной.
После заключения мира с Наполеоном Александр вступил в войну со Швецией (1808-1809 гг.). В результате к России отошла Финляндия, которая вошла в состав России на правах автономного княжества. 12 июня 1812 г. Наполеон во главе своей армии вторгся на территорию России. Он рассчитывал разгромить русские армии и навязать России мир на своих условиях. Русскую армию возглавили: М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион, А. П. Тормасов.
Ход войны. Первый этап. (От начала вторжения 12 июня до 26 августа Бородинского сражения). Второй этап. (от Бородино до битвы за Малоярославец 12 октября) Третий этап: (от Малоярославца до разгрома "Великой армии" и освобождения территории России 25 декабря).
Следуя плану М. Б. Барклая де Толли, русская армия сразу начала отступать. План Наполеона был сорван, он продолжил наступление на Москву в надежде на генеральное сражение. Русское общество было недовольно. Это заставило императора назначить главнокомандующим М. И. Кутузова. 26 августа недалеко от Москвы у села Бородино состоялось сражение. 1 сентября состоялся военный совет в деревне Фили, где было решено оставить Москву Наполеону, тем самым сохранив русскую армию. 2 сентября Наполеон вошел в Москву. Изза отсутствия продовольствия он решил оставить русскую столицу. Кутузов готовился к контрнаступлению, которое начал 6 октября. 12 октября состоялось сражение у Малоярославца.
Начавшиеся сильные морозы и голод превратили отступление французов в бегство. 25 декабря 1812 г. манифест Александра I известил о победном завершении Отечественной войны.
1 января 1813 г. русская армия перешла Неман. 4-6 октября 1813 г. состоялось сражение под Лейпцигом, так называемая Битва народов. Вскоре союзные войска вступили в Париж. Наполеон отрекся от престола и был сослан на остров Эльба. 28 мая 1815 г. в ходе Венского конгресса был подписан Заключительный акт, по которому Россия получила Бессарабию, Финляндию и территорию бывшего герцогства Варшавского. 6 июня 1815 г. состоялась битва под Ватерлоо. Наполеон в очередной раз был разбит и отправлен на остров Святой Елены.
Причины победы.
1) Национально-освободительный, народный характер войны,
2) Высокий уровень военного искусства русских военачальников.
3) Значительный экономический потенциал России, позволивший создать большую и хорошо вооруженную армию.
4) Потеря французской армией своих лучших боевых качеств, нежелание, да и неспособность Наполеона найти поддержку в крестьянской массе за счет ее освобождения от крепостничества.
5) Большой вклад в победу России внесли Англия и Испания, отвлекавшие значительные силы Наполеона для войны в Испании и на море.
Последствия войны:
1. Большой хоз. и национальный ущерб. Впоследствии Московская губерния быстро оправилась от опустошения, а в Смоленской и Псковской численность населения была меньше, чем в 1811 году вплоть до середины века.
2. Консолидация русской нации.
3.Укрепление Москвы как духовного центра
3. Взлёт национальной культуры
4.Война повлекла за собой ряд дипломатических соглашений между странами, выступавшими против наполеоновской Франции. В 1815 году, когда конгресс в Вене закончился, русский, прусский и австрийский монархи подписали договор о священном союзе. Они взяли на себя обязательства обеспечить незыблемость решений венского конгресса. В дальнейшем к союзу присоединилось большинство европейских монархов.
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.: актуальные вопросы современной историографии Материалы «круглого стола» «Круглый стол», организованный Институтом всеобщей истории РАН (ИВИ) и Российско-французским...»
И С Т О Р И О Г РА Ф И Я
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.:
актуальные вопросы современной историографии
Материалы «круглого стола»
«Круглый стол», организованный Институтом всеобщей
истории РАН (ИВИ) и Российско-французским центром исторической
антропологии им. Марка Блока РГГУ в преддверии 200-летнего юбилея
председательством д. и. н. А.В. Чудинова. Инициаторами мероприятия выступили доктор истории Э.М. Вовси (Институт Наполеона и Французской революции Государственного университета Флориды, США) и Н.В. Промыслов (ИВИ). Участники имели возможность заранее ознакомиться с текстом вступительного доклада Э.М. Вовси и комментарием к нему заведующего кафедрой всеобщей истории Уральского государственного педагогического университета, д. и. н.
В.Н. Земцова. Из-за недостатка места мы вынуждены отказаться от публикации дискуссии, последовавшей за выступлениями участников «круглого стола».
Настоящая публикация подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований секции истории ОИФН РАН «Исторический опыт социальных трансформаций и конфликтов»
QUI NON PROFICIT DEFICIT
(о некоторых направлениях по изучению эпохи войны 1812) Э.М. Вовси История вторжения Наполеона в Россию в 1812 г., именуемого в разных исторических текстах «Русская кампания», «Отечественная война», «Вторая Польская война» – согласно национальной принадлежности и преференциям авторов – давно уже стала классической Материалы «круглого стола»темой мировой историографии. Вокруг нее сломано немало копий, написаны сотни больших и малых трудов, некоторые, буквально по горячим следам, уже в 1813–1814 гг., однако число таких работ будет, несомненно, и дальше расти в связи с предстоящим 200-летним юбилеем.
В этой связи мне хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты, до сих пор требующие, полагаю, дополнительного рассмотрения. До недавнего времени специалисты изучали в основном оперативные планы противоборствующих сторон, накопление и использование ими военного потенциала и, наконец, стратегические операции и выполнение тактических решений в отдельно взятых сражениях. Однако современный подход, основанный на системе микро- и макроанализа, ставит перед историком новые задачи – выявить, что, собственно, война 1812 г. значила для общества в целом и для отдельно взятого маленького человека, оказавшегося в гуще тех памятных и трагических событий. В разработке этой тематики историкам, работающим по обе стороны Атлантики, необходимы: а) широкое вовлечение в научный оборот архивных источников по периоду 1810–1812 гг., б) знание и критический анализ новейшей специальной литературы, в) совместные издательские проекты с привлечением специалистов по вспомогательным дисциплинам и организация международных конференций.
Моя цель – дать краткий обзор некоторых направлений, наметившихся за последнее десятилетие в «западной» – английской, французской и американской – наук
е при разработке сюжетов, так или иначе связанных с 1812 г., и очертить возможные перспективы совместной работы с российскими коллегами. Ведь внимание историков сегодня привлекает уже не столько собственно война 1812 г. с ее строго очерченными географическими и хронологическими рамками, сколько вся породившая ее эпоха, включая предшествующее развитие России и Франции с их экономическими, политическими, социальными, военно-административными и культурными особенностями.
Если проанализировать круг известных современным историкам архивных источников, то, без сомнения, ведущие российские хранилища (РГАДА, РГВИА, АВПРИ и др.) содержат достаточное количество документов для разработки целого ряда аспектов данной темы, например, для изучения военного потенциала противоборствующих сторон. Частная переписка, рапорты командования, полковые реестры и трофейные французские документы – весь этот материал так или иначе постепенно вводится в научный оборот, и последние работы росОтечественная война 1812 г.
сийских историков прекрасное тому подтверждение1. С определенным набором этих документов – в основном с микрофильмами архивных дел ВУА, находящимися в Библиотеке Конгресса США – работали и некоторые западные историки, как, например, Фридрих Каган, исследовавший военные реформы в России первой половины XIX в.2 Что же касается французских архивов – в частности, Национального архива (A. N.) и Военного архива сухопутных сил в Венсенне (SHD/DAT), – то на сегодняшний день этот огромный комплекс документов используется западными историками лишь фрагментарно.
Дело тут частично в том, что многие материалы по истории вторжения Наполеона в Россию в 1812 г. – например, в SHD/DAT – рассредоточены по разным фондам: хранятся в составе полковых дел, отдельно составленных тематических групп (например, по генералитету, императорской штаб-квартире или гвардии) и в общей корреспонденции Наполеона. Исключение составляет небольшая серия С2 (Сampagne de Russie), куда входят многочисленные документы высшего командования Великой армии, сводки о составе частей на 2 и 3 сентября 1812 г., отчеты о количестве войск, во время проведения смотров в Москве в октябре, а также перехваченные французами бумаги русского генерала Ф.-В. Остен-Сакена (3-й Обсервационный корпус)3. В другой серии, хранящей личные досье французского генералитета, также нашлось место для дел М.Б. Барклая де Толли, Л.Л. Беннигсена и ряда других российских военачальников4. Далее, в многотомной серии 1Х, собрана личная переписка Наполеона с Военным министерством (генерал Кларк, 1807–1814) и Министерством военной администрации (генерал Лакюэ де Сессак, 1810–1813), отражающая динамику формирования, снабжения и передвижения Великой армии. Многие документы из этой переписки – декреты, распоряжения и личные указания – вошли в знаменитую 32-томную «Корреспонденцию Наполеона» (1858–1869).
Например, в одной из книг серии 1Х содержится оригинал письма императора французов от 16 марта, адресованного Военному министру, о
Целорунго Д. Г. Офицеры русской армии – участники Бородинского сражения. М., 2002;
Попов А.И. Великая армия в России. Погоня за миражом. Самара, 2002; Отечественная Война
1812. Энциклопедия. М., 2004; Ульянов И.Э. 1812: Русская пехота в бою. М., 2008; Ивченко Л.Л.
Бородинское сражение. История русской версии событий. М., 2009; Земцов В.Н. 1812. Пожар Москвы. М., 2010; и др.
Kagan F.W. The military reforms of Nicholas I: the origins of the modern Russian army. N.Y., 1999.
Некоторые документы из этих фондов позднее вошли в работы: Chuquet A. 1812: La Guerre de Russie: notes et documents. P., 1912; Idem. Indits Napolonienes. P., 1913; Fabry G. Campagne de Russie 1812. Operations militaire. 5 vols. P., 1900–1903.
SHD/DAT, series ETR 16YD 14 (Barclay de Tolly); 16YD 20 (Bennigsen); и др.
Материалы «круглого стола»
том, что начало операций по вторжению в Россию назначено предварительно на 1 апреля 1812 г.5 Что же касается Национального архива, то тут нужно отдать должное той аккуратности, с которой его работники сохранили документацию, относящуюся к эпохе войны 1812 г. Прежде всего, это большая коллекция частных архивов участников кампании 1812 г. в серии АР (Archives prive), куда входят бумаги семейств Колленкур и Сегюр, маршалов Л.-Н. Даву, М. Нея, неаполитанского короля И. Мюрата, секретаря Наполеона барона А. Фэна и пр. Однако самый большой объем документации содержит фонд П. Дарю – главного координатора военной администрации наполеоновской Империи. Фонд содержит более 360 дел и включает, помимо всего прочего, проект Военного кодекса армии (1805) в семи больших книгах6, на основании которого в 1812 г.
был построен свод военного законодательства Первой империи7. Не менее важна и серия A I, содержащая всю исходящую корреспонденцию Наполеона и включающая хронологический перечень всех декретов и распоряжений, рассылавшихся затем секретарями императора во все концы – «от Тахо до Вислы», а также в Америку и немногочисленные французские колонии. В этой серии также находится и корреспонденция по реорганизации Главной императорской квартиры в Вильно, проведенной в первые недели войны, сводки о производствах и награждениях (в частности, в Москве), приказы на день и пр.8 Все эти и многие другие архивные источники еще не стали предметом комплексного научного анализа и вводились в оборот весьма выборочно.
Хочу коснуться также темы разнообразия новых сюжетов исследований, выбираемых современными авторами. Известно, что при описании подготовительных мер к кампании 1812 г. и самих военных действий исследователи из различных стран, работающие в самых разных направлениях, привыкли во многом сверяться с многотомными «классическими» трудами прошлого – Г. Фабри, Л. Маржерона, А.
Шюке, Ж. Шамбре, Л. Морвана и др., вобравшими в себя все известные на тот момент опубликованные источники, а также с богатой мемуарной литературой непосредственных участников похода, не подвергая опубликованный – зачастую более 100 лет назад – материал дополниОтрывок текста из означенного декрета от 16 марта 1812 г., помещенный в серии 1Х 179, точно соответствуют Correspondance de Napolon. N 18589, T. 23. P. 324 (“L’expdition devra avoir lieu au 1 avril”).
A.N., Project de Code militaire et redaction 138 AP 17–22.
Berriat H. Lgislation Militaire ou Recueil Mthodique et Raisonne. 4 vols. Alexandrie,
– – –
тельной проверке. Нередко вне поля зрения военных историков остаются современные исторические работы, освещающие эпоху 1812 г.
не только в военно-операционном плане, но и рассматривающие социально-политические отношения.
Российская историография войны 1812 г. известна на Западе, и в частности в Америке, в основном, по «классическим» работам – книге Е.В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию» (переведена на английский в 1942 г.) или Л.Г. Бескровного «Русская армия и флот в XIX в.»
(переведена в 1996 г.)9. Впрочем, историки, занимающиеся «русской темой», читают по-русски, как, например, Кристофер Даффи, что позволило ему создать в 1972 г. вполне оригинальную работу10. Изданные недавно при поддержке Центра Индиана-Мичиган по русским и восточноевропейским исследованиям переводы мемуаров А. Ермолова, Н. Дуровой и Д. Давыдова расширили знания зарубежного читателя о войне 1812 г.11 Наконец, были опубликованы на иностранных языках и некоторые специальные работы российских историков, где так или иначе затрагивается тема войны 1812 г., например, двухтомник Александра и Юрия Жмодиковых об организации и тактике русской армии и обширный труд Олега Соколова «Армия Наполеона» – исследования, которые еще ждут своих рецензентов12.
Сегодня строго академические издания – те, что создаются преподавателями высшей школы, участвующими в научных конференциях и выступающими рецензентами аналогичных исследований, – соседствуют с многочисленными любительскими публикациями, далеко не все из которых сопоставимы с ними по своему качеству, уровню критического анализа и объему использованных источников. К первым можно отнести такие издания общего характера, как, например, «Наполеоновские войны: международная история» (2009) Чарльза Исдейла, профессора Университета Ливерпуля (Великобритания), ко вторым – совместную работу президента Международного Наполеоновского общества Бена Вейдера и генерала Мишеля Франчески Tarl E. Napoleon’s Invasion of Russia, 1812. N.Y., Toronto, 1942; Beskrovny L. The Russian Army and leet in the 19th century. Gulf Breeze, 1996.
Duffy C. Borodino and the War of 1812. L., 1972.
The Czar’s General: The Memoirs of a Russian General in the Napoleonic Wars. Welwyn Garden City, 2005; Troubetzkoy G. In the Service of the Tsar Against Napoleon: The Memoirs of Denis Davidov, 1806–1814. L., 1999; Durova N. The Cavalry Maiden: Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars. Benicia, 1997.
Zhmodikov A., Zhmodikov Y. Tactics of the Russian Army in the Napoleonic Wars. West Chester, 2003; Sokolov O. L’arme de Napolon. P., 2002.
Материалы «круглого стола»
«Война против Наполеона» (2007)13, где откровенно воспевается гений императора французов.
В последние годы вышел также целый ряд специальных статей и монографий на английском и французском языках. В 2005 г. по результатам симпозиума, проводившегося Школой истории при том же Университете Ливерпуля, был опубликован сборник статей «Народное сопротивление в войнах против французов». Наряду с традиционными для европейских ученых исследованиями по теме испанской герильи, сопротивления оккупационным властям в Германии и в Италии, там была представлена и работа Джанет Хартли «Патриотизм русской армии в Отечественной войне 1812 года»14. В своей статье, автор, выказав знакомство с известными ей (на тот момент) направлениями в российской дореволюционной и советской историографии, сравнила идею патриотизма русского народа с патриотизмом русского офицерского корпуса, который, по ее мнению, направлялся самодержавием и церковью на поддержание существующего социального порядка. К числу весьма интересных изданий можно отнести и сборник статей под редакцией Брюса Менинга и Давида Шимилпенника, «Военные инновации от Петра Великого до Революции 1917 г.», вышедший в 2004 г., где затронуты вопросы военного строительства российской регулярной армии и, особенно, ее развития во время войн против Наполеона15.
Наряду с исследованием Майкла Адамса «Наполеон и Россия» (2007)16, освещающим историю франко-российских отношений с 1790-х гг. по 1815 г., наибольший интерес сегодня представляет работа профессора истории Лондонской школы экономики Доминика Ливена «Россия против Наполеона: правдивая история “Войны и Мира”»
(2010)17. Ливен поставил себе целью выяснить, насколько реальность войны 1812 г. отражена в бессмертной эпопее Л.Н. Толстого. Особенно британский исследователь концентрируется на политике Александра I и его близких советников. Исследовав многочисленные документы, он пришел к выводу, что Великую армию погубили не снег и/или Esdaile Ch. Napoleon’s Wars: An International History, 1803–1815. L., 2009; Weider B. General ranceschi M. The Wars against Napoleon: Debunking the Myth of the Napoleonic Wars.
Hartley J. The Patriotism of the Russian Army in the “Patriotic” or “atherland” War of 1812// Popular resistance in the rench wars: patriots, partisans and land pirates. Basingstoke,
2005. С. 181–200.
Reforming the Tsar’s army: military innovation in Imperial Russia from Peter the Great to the Revolution/ Ed. Schimmelpenninck D., Menning B. Cambridge, 2004.
Adams M. Napoleon and Russia. Hambledon Continuum, 2007.
Lieven D. Russia Against Napoleon: The True Story of the Campaigns of “War and Peace”.
– – –
бескрайние пространства России, но твердая политика царя, помноженная на лучшую систему командования, администрации и снабжения чем та, которой располагал Наполеон.
Теме Бородинского сражения были посвящены две монографии, каждая из которых по-своему не лишена новизны и научной значимости. Видный британский историк Дигби Смит (известный также как Отто фон Пивка) опубликовал книгу «Бородино» (1999), несколько расширив традиционно привлекаемый круг источников за счет мемуаров в основном немецких участников событий18. Намного полнее, с привлечением большого числа российских источников, переведенных им на английский язык, написал свою монографию «Битва при Бородино: Наполеон против Кутузова» (2007) американский историк грузинского происхождения, Александр Микаберидзе. Ранее им была опубликована книга о русском офицерском корпусе, включающая в себя сотни биографий и столь же обширный иллюстративный ряд19.
Несмотря на то что в последнее время французская историография специализируется на переиздании большого количества мемуарных и биографических произведений участников похода на Россию 1812 г., она пока не отличилась появлением сколько-нибудь заметных аналитических работ, опирающихся на архивные данные. Так, помимо красочных компилятивных альбомов-публикаций преподавателя лицея в Дижоне Алена Пижара20, можно разве что упомянуть недавно выпущенную книгу писателя Жан-Клода Дамамма с почти классическим названием «Орлы зимой: Россия 1812», представляющую собой очередное научно-популярное издание для массового читателя, как, впрочем, и ранее вышедшая книга «Бородино: битва за редуты» историкалюбителя, а ранее – врача Франсуа-Гая Уртуля21.
С другой стороны, несомненный интерес представляют специальные работы английских и французских специалистов по исследованию социальных аспектов военной истории, влиявших на «войну и мир». В своей новой монографии «С армией в сердце» (2006) признанный мэтр изучения темы армии и общества Жан-Поль Берто анализирует социальный облик наполеоновского солдата, его чаяния, надежды Smith D. Borodino (Great Battles). Moreton-in-Marsh, 1999.
Mikaberidze A. The Battle of Borodino: Napoleon аgainst Kutuzov. L., 2007; Idem. The Russian Officer Corps in the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1792–1815. L., 2005.
Pigeard A. Les Campagnes napoloniennes. 2 vols.. Quatour, 1998; Idem.La Garde Impriale.
Damamme J-C. Les aigles en hiver: Russie 1812. P., 2009; Hourtoulle F.-G. La Bataille des red
– – –
и мотивы поведения22. С этой книгой перекликается и работа другого «классика» данного направления, британского профессора Алана Форреста «В рядах наполеоновских армий» (2006) – результат изучения эпистолярного наследия периода Революционных и Наполеоновских войн, освещающая, в частности, роль религии в сознании их участников23. Отмечу, что Форрест, работающий в университете Йорка, организовал совместно с университетами Северной Каролины и Флориды издательский проект «Война, культура и общество, 1750–1850» (War, Culture and Society), который наверняка заинтересует и российских специалистов.
Среди других исследований, раскрывающих внутренний мир людей на войне, заслуживает внимания недавно выпущенная монография Брайана Мартина «Боевое братство, дружба и сексуальность в Наполеоновскую эпоху» (2011)24, название которой говорит само за себя.
Однако в историографии социальных аспектов войны 1812 г.
наблюдается явный недостаток исследований о роли женщины, о семье и воспитании детей в то сложное и противоречивое время. Недостаточно представлена и тема оппозиции наполеоновскому режиму, в частности, заговора генерала К.-Ф. Мале в октябре 1812 г., на что в свое время обратил внимание преподаватель Университета Париж-1 Бернар Гэно25.
С точки зрения зарубежного специалиста, было бы привлекательно иметь возможность читать – в различных российских исторических сборниках, подготовленных музеями, академическими изданиями и центрами экспериментальной археологии, – профессионально выверенные резюме на английском/французском языке. Это, несомненно, расширило бы читательскую аудиторию этих изданий, повысило бы интерес к ним за рубежом и принесло бы их авторам поистине международное признание. Волей-неволей надо признать, что английский язык стал необходимым средством международного академического общения благодаря развитию Интернета, созданию разнообразных электронных каталогов и социальных сетей. Многочисленные европейские и американские конференции также проводятся в основном на английском языке. Одной из таких является ежегодный Консорциум по революционной эпохе 1750–1850 гг. (Consortium on the Revolutionary Bertaud J-P. Quand les enfants parlaient de glorie. L’arme au Coeur de la rance de Napolon. P., 2006.
Forrest A. Napoleon’s Men: The Soldiers of the Revolution and Empire. L., 2006.
Martin B. Napoleonic riendship: Military fraternity, intimacy and sexuality in 19th – century rance. New Hampshire, 2011.
Гэно Б. К истории военной оппозиции бонапартистскому режиму // ФЕ 2006. М., 2006.
Отечественная война 1812 г.
Era), впервые организованный без малого 40 лет назад Советом университетов США и ежегодно приглашающий на свои сессии десятки специалистов из различных учебных и научных центров Европы, Южной Америки и Австралии. Тематика Консорциума многообразна и способна удовлетворить самые изысканные вкусы – вопросы религии, морской войны, влияние природного фактора на военные действия, литература, искусство и даже новые компьютерные технологии – всему здесь находится место. На консорциумах, организованных в 2009 и 2011 гг., было приятно видеть и российские делегации из ИВИ РАН26.
Хотелось бы, чтобы это начинание крепло и развивалось, способствуя дальнейшему обмену научной информацией. После каждой конференции, Консорциум публикует сборник материалов, представленных на сессиях, который затем распространяется по подписке в более чем 60 американских и европейских библиотек и университетов.
Несколько меньшими по масштабу, но не менее продуктивными по значимости, являются конференции Международного Наполеоновского общества (International Napoleonic Society), которые проводятся преимущественно в «наполеоновских» местах Европы. Сегодня, президентство INS принадлежит публицисту Дэвиду Мэркхэму, который активно приглашает к сотрудничеству историков и любителей из разных стран мира, предлагая им членство в INS, а также и возможность публиковаться в возрожденном журнале «Наполеоновские исследования» (Napoleonic Scholarship). В планы INS входит и сотрудничество с российскими организациями в организации совместной конференции, посвященной 200-летию вторжения Наполеона в Россию.
Столь же активна и деятельность французского частного «Фонда Наполеона» (ondation Napolon), который совместно с парижским Институтом Наполеона, возглавляемым Жаком-Оливье Будоном, регулярно организует своеобразные публичные чтения по соответствующей тематике. Одним из главных достижений «Фонда Наполеона», помимо ежегодного гранта, вручающегося на «наполеоновские»
изыскания, является великолепная электронная база данных по эпохе Первой империи (www.Napoleonica.org). С 2002 г. Фонд ведет работу над публикацией «Корреспонденции Наполеона» – новым многотомным изданием, дополняющим прежнее «классическое» издание XIX в., куда войдут вновь обнаруженные личные письма и директивы Наполеона I, а также архивные документы из разных стран мира – на сегодСм.: Чудинов А.В. Международная конференция «Революционная эпоха 1750–1850 гг.»
– – –
няшний день их выявлено более 32 тысяч27. Думается, что участие в данном проекте могло бы заинтересовать и российскую сторону.
Для американских историков весьма острым сегодня является вопрос о сохранении преподавания в вузах военной истории в целом и Наполеоновских войн в частности. Сегодня в нашем быстроменяющемся мире социальных и прочих «сетей» для того чтобы привлечь внимание студентов и снискать уважение коллег по профессии, историку необходимо владеть методами междисциплинарных антропологических исследований с акцентом на лингвистику и/или изучение общественной памяти. Солдаты и офицеры противоборствующих армий, познавшие триумф и трагедию 1812 г., вышли из среды, имевшей различный политический, культурный и социальный контекст; они использовали разные средства для достижения успеха; наконец, они тешили себя надеждой превзойти неприятеля в решении идеологических, стратегических, и прочих задач. Вместе с тем эти люди одинаково испытывали нужду и муки голода, скорбь о погибших и страх перед неизвестным; они заставляли себя приспособиться к нормам военной жизни, где хоть иногда, но находили некое моральное удовлетворение от сиюминутных успехов. Одной из задач историка видится познание того, как жизненный опыт, приобретенный в разных условиях, наложил отпечаток на восприятие пережитого участниками событий либо немедленно, либо по прошествии лет. Медленно, но верно ему приходится отходить от «наблюдения» за полями сражений, от традиционных описаний фланговых маневров, количества захваченных орудий и оценок целесообразности тех или иных элементов военной формы, все более концентрируясь на культурных и социальных аспектах войны как исторического феномена, являющегося результатом многих и многих вовлеченных в войну людей.
Таким образом, все вышеперечисленные аспекты – введение в научный оборот новых источников, знакомство с современными социо-культурными исследованиями и их критический анализ, равноправное, а в чем-то и лидирующее участие в совместных проектах и международных конференциях – должны позволить российским специалистам по истории войны 1812 г. и впредь задавать тон соответствующим исследованиям на протяжении многих лет и по окончании юбилейных торжеств. Ибо, воистину, кто не движется вперед, отстает.
Kerautret M., Madec G. et al. Napolon Bonaparte: Correspondance gnrale. 7 vols. P., 2002–
2010. Последний из вышедших на сегодня томов посвящен кампании 1807 г. и переговорам в Тильзите.
Отечественная война 1812 г.
– – –
Историографией заниматься скучно. Это – во-первых. Скучно, потому что волей или неволей превращаешься из «создателя», «творца» в «оценщика» и интерпретатора чужих творений (тем более обидно, если приходится иметь дело не с «творениями», а с явной или скрытой халтурой, нередко претендующей на то, чтобы называться «научной продукцией»).
Историографией заниматься опасно. Это – во-вторых. И опасно не только потому, что можешь испортить отношения со своими коллегами по цеху или еще хуже (о боже!) с реальными или потенциальными «деловыми партнерами», от которых нередко зависишь, но, прежде всего, потому (говорю о себе), что можешь незаслуженно обидеть человека, который просто-напросто «сделал все, что мог». Кроме того, почему ты должен быть уверен, что прав именно ты и тебе позволено выставлять кому-то оценки?
Историографией заниматься совершенно неплодотворно. Это – в-третьих. Нередко такого рода «упражнения» бывают только начальным, вынужденным этапом «настоящей» работы, этапом, о котором специально не стоит и говорить, но наличие которого должно просто ощущаться в «основном» тексте. Вот поэтому «творческие» натуры иногда публикуют историографические сюжеты только потому, что у них либо нет ничего более достойного для представления публике, либо уже, как говорится, «накипело» при знакомстве с выдающимися опусами «околонаучной продукции». И великое спасибо А.И. Попову, у которого иногда выдается «свободный часок», чтобы поставить на место грюнбергов и хлесткиных, которых, по мере приближения юбилейных торжеств, становится все больше и больше. К несчастью, обращенный на такого рода «писателей» критический взгляд приводит только к повышению известности этих недоучившихся, но очень амбициозных халтурщиков.
И все же… Заниматься историографией интересно. Интересно, потому что только так ты можешь глубоко и систематически познакомиться с трудами предшественников и современников, оценить их достижения и наметить уровень задач для своих собственных штудий.
Заниматься историографией необходимо. Только в этом случае Материалы «круглого стола»
ты начинаешь осознавать ограниченность своих собственных методологических и «фактологических» ориентиров. Здесь мы говорим не о «традиционной» для советского, а нередко и постсоветского историка историографии, представляющей собой либо реферирование трудов предшественников, либо способ захвата места «Учителя», некоего высшего арбитра, расставляющего оценки и избавившегося от надоевшей ему, «рутинной» работы с источниками. Мы имеем в виду ту историографию, которую сегодня нередко называют «новой историографией», зачастую вкладывая в это понятие разные, часто противоположные, смыслы. Под «новой историографией» мы подразумеваем штудии, дающие возможность проникновения в глубь процесса исторического познания как процесса глубоко диалогичного и не предполагающего возможность постижения «абсолютной исторической истины». При этом «новая историческая наука» и «новая историография» вовсе не отрицают необходимость скрупулезных позитивистских разработок, которые, однако, должны восприниматься только как некий первоначальный, черновой (хотя и очень трудоемкий) этап того, что историку еще предстоит понять и осуществить.
Заниматься историографией полезно. Во-первых, потому, что коллеги по цеху, обращаясь к твоим историографическим опусам, просто экономят свое время, открывая для себя существование той или иной полезной для них публикации, а, во-вторых, занятия историографией помогают наметить важные и перспективные сферы дальнейших исследований.
Подводя итог, нащупывая некий баланс между тем, насколько «полезна» и «не полезна» работа историографа, вынужден все же признать, что «неполезность» явно перевешивает «пользу». Весь наш предшествующий опыт вопиет о тщетности тех «указаний на перспективу», которые строятся на основе историографических работ. Каждый из «практикующих» историков вырабатывает свой собственный исследовательский метод, более или менее органично связанный с уровнем его профессиональной квалификации, профессиональной и гражданской честности, характером миросозерцания и материальными возможностями.
С большим интересом ознакомившись с докладом д-ра Вовси, мы увидели созвучие его основных тезисов с тем, о чем мы говорим и пишем уже более десяти лет28. В частности, в нашей недавней публиЗемцов В.Н. Бородино в исторической памяти немцев // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы. М., 2001; Он же. «Французское» Бородино.
(Французская историография Бородинского сражения) // Отечественная история. 2002.
Отечественная война 1812 г.
кации, посвященной работам современных зарубежных авторов29, мы попытались суммировать основные тенденции в зарубежной историографии последних лет применительно к изучению войны 1812 г. Эти тезисы сводились к следующему:
1. Значительно расширилась тематика исследований как в плане географическом, что проявилось в появлении ряда работ, посвященных действиям русской армии, так и в тематическом – началось исследование проблем историко-социального характера и исторической памяти.
2. Оказался в значительной степени преодолен языковой барьер. В настоящее время редкое исследование, вышедшее за рубежом, обходится без обращения к русскоязычным материалам, в том числе архивным. А англоязычные авторы стали шире привлекать немецкие и польские материалы.
3. Значительно расширились межнациональные научные контакты. Это обстоятельство оказалось в немалой степени обусловлено как развитием Интернета и упрощением порядка пересечения границ, так и более интенсивной миграцией в рамках мирового интеллектуального сообщества.
4. Более явственно стало ощущаться воздействие результатов методологических поисков западноевропейских и американских исследователей второй половины ХХ в. Сохранявшийся долгое время барьер между прежней историографической традицией, ориентированной на «обычное» прочтение источника, и методологическими поисками в рамках постмодернистских подходов стал к концу ХХ – началу XXI в. постепенно преодолеваться.
5. Все обозначенные выше перемены свидетельствуют о значительном ослаблении и даже разрушении некогда жестких рамок национальных историографических традиций, укреплявшихся на протяС. 38–51; Он же. «Образ врага» в русской историографии Бородинского сражения:
рождение традиции // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. Вып. 132.
М., 2002; Он же. Микроистория и перспективы изучения Отечественной войны 1812 года // Парадигмы исторического образования в контексте социального развития. Екатеринбург, 2003.
Ч. 1; Он же. Наполеоновские войны в британской историографии // Imagines mundi. Альманах исследований всеобщей истории XI–XX вв. № 2. Альбионика. Вып. 2. Екатеринбург, 2003;
Он же. Зарубежная историография Бородинского сражения //Бородино и наполеоновские войны. Битвы, поля сражений, мемориалы. М., 2003; Он же. Историография // Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004 (совместно с В.П. Тотфалушиным); Он же. Наполеон и Европа. Взгляды на политику // НиНИ. 2006. № 2. С. 215–217; Он же. Историография Отечественной войны 1812 года: 200 лет поиска истины // IMAGINES MUNDI: альманах исследований всеобщей истории XI–XX вв. № 7. Сер. Интеллектуальная история. Вып. 4.
Екатеринбург, 2010. С. 105–117 и др.
Земцов В.Н. Бородинское сражение в современной зарубежной историографии // Бородино в истории и культуре. Можайск, 2010. С. 26–33.
Материалы «круглого стола»
жении почти двух веков. Здесь следует пояснить, что, по нашему глубокому убеждению, для каждой нации, которая так или иначе была вовлечена в глобальный конфликт начала XIX в., была выработана своя, национально-специфическая версия событий войны 1812 г., которая, несмотря на вариации, оказалась очень прочной и слабо поддающейся пересмотру. Сегодня эта национальная замкнутость историографических версий постепенно преодолевается.
Подводя итоги, мы отметили, что отход от чисто военной тематики в изучении 1812 г. и процесс обновления методологического инструментария происходили и происходят в России значительно медленнее, чем на Западе. Только в самом конце XX – начале XXI в.
исследователи стали касаться проблем, изучаемых в рамках социальной истории, исторической психологии, истории ментальностей, исторической памяти и других сфер современного гуманитарного знания.
Медлительность этого поворота нашла отражение и в энциклопедии «Отечественная война 1812 года»30, лишь частично выполнившей задачу подведения итогов изучения данной тематики.
Между тем доклад д-ра Вовси ясно, по нашему мнению, показывает наличие серьезных проблем разного рода и в зарубежной исторической науке. Так, нам представляется, что зарубежные авторы в целом слабо знакомы с достижениями российских историков в изучении эпохи Наполеоновских войн. Более того, эти достижения замалчиваются, значительно умаляются или, что еще хуже, становятся источником компиляции для недобросовестных зарубежных авторов, имеющих возможность следить за новинками русскоязычной литературы.
Обращает на себя внимание и то, что в среде зарубежных историков русской кампании Наполеона существовала и продолжает существовать неконструктивная конкуренция, которая выражается в сознательном принижении или игнорировании достаточно ярких и оригинальных работ и, наоборот, в чрезмерно высоких оценках посредственных сочинений. Так, в докладе д-ра Вовси не был даже упомянут интересный во многих отношениях труд британского историка А. Замойского31, как, впрочем, и замечательная, новаторская во многих отношениях трилогия недавно умершего П. Бриттен Остина32. Остается сожалеть о совершенном игнорировании докладчиком работ Д. Чандлера, предопределивших развитие современной англо-американской Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004.
Zamoyski A. 1812: Napoleon’s atal March on Moscow. L., 2004.
Первое издание: Austin P.B. The March on Moscow. London, 1993; Idem. 1812. Napoleon in
– – –
историографии, а также трудов французского историка Ф. Бокура, хотя и отмеченных печатью любительства, но представляющих несомненный интерес.
Несколько удивил нас высокомерный отзыв о работе Ф.Д.
Уртуля33, хотя и не выдающейся, но не лишенной интереса. В то же время следует усомниться в тезисе д-ра Вовси в отношении «академичности» работ Ч. Исдейла, которого, несмотря на его высокий пост в официальной науке, следует скорее причислить к не слишком добросовестным популяризаторам. Удивила и безапелляционность в оценках работы Д. Ливена34, интересной и важной во многих отношениях, но отнюдь не поставившей точку в бесконечном споре о причинах гибели армии Наполеона в России.
По-видимому, замечания, высказанные мною о докладе д-ра Вовси, еще раз демонстрируют сложность и даже «опасность» того, что мы называем историографией. Диапазон разброса мнений может быть здесь чрезвычайно широк, ибо определяется не только степенью реального вклада того или иного историка в постижение прошлого, но и обстоятельствами «привходящего» характера. Так и хочется воскликнуть: «А судьи кто?» – и пожелать оставить будущим поколениям право выставлять оценки ныне живущим или недавно умершим авторам.
Что касается «выявления перспектив» и «постановки задач», то они очевидны:
– Продолжается переход от изучения эпопеи 1812 г. как события прежде всего военной истории к исследованию ее с точки зрения социальных, экономических, политических и ментальных процессов.
По нашему мнению, нельзя допустить, чтобы этот переход привел к отказу от изучения событий военного характера, которые, кстати сказать, нередко дают ключ к пониманию процессов, происходивших и в других сферах исторического прошлого.
– Идет и будет вестись интенсивный поиск новых методологических ориентиров, что должно не только обогатить инструментарий историков войны 1812 г., но открыть перед ними новые темы и новые ракурсы в исследовании привычных сюжетов.
– Необходимо отказаться от практики исключительно эпизодических и случайных контактов отечественных историков войны 1812 г. с коллегами из зарубежных стран. Эти связи должны перейти в более конструктивное русло и стать естественными и постоянными.
В данной связи хочется указать на ограниченный потенциал в плане Hourtoulle F.G. La Moscowa – Borodino. La Bataille des Redoutes. P., 2000.
– – –
развития подобных контактов, которым располагают провинциальные российские историки. Нередко это приводит к тому, что многие наработки отечественных авторов, отдаленных от столичных центров, оказываются, с одной стороны, неизвестны в Москве и Петербурге, а тем более за рубежом, а с другой – становятся источником для компиляций и откровенного плагиата.
Нам думается, что наряду с последовательным неприятием творений псевдопатриотического, назидательного и халтурнокомпилятивного характера следует более спокойно и конструктивно отнестись к истории «любительской», той, которая иногда не слишком заметно, но последовательно делает великое дело – популяризирует историческое знание, воспитывает чувство Родины и приобщает к исторической науке любознательную молодежь. Мы имеем в виду прежде всего движение военно-исторической реконструкции. Не случайно многие состоявшиеся специалисты по истории войны 1812 г. были и остаются активными участниками этого удивительного общественного явления рубежа XХ–XXI вв.
Выступления А.В. Чудинов35 (председатель). Круглая годовщина любого крупного исторического события неизбежно вызывает всплеск общественного интереса к нему, длящийся, впрочем, не слишком долго.
Торжества рано или поздно заканчиваются, и внимание как общественных деятелей, так и широкой публики переключается на другие темы, другие события, другие юбилеи. Общественный интерес, увы, вещь непостоянная и эфемерная. Однако если та или иная историческая коммеморация сопровождается подъемом серьезных научных исследований по соответствующей проблематике и служит стимулом для качественного скачка в ее разработке, она из мимолетного отражения событий далекого прошлого сама становится Событием, и память о ней может сохраниться в историографии еще на долгие годы. Так, например, произошло с празднованием в нашей стране 200-летия Французской революции XIII в. Кто сегодня вспомнит о политическом значении, придававшемся тогда этому юбилею властями предержащими и широкой общественностью? О скрытых смыслах, которые политически активные граждане пытались разглядеть за строками торжественных докладов М.С. Горбачева и А.Н. Яковлева? Все это было, да Александр Викторович Чудинов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, директор Российско-французского центра исторической антропологии им. Марка Блока РГГУ, главный редактор «Французского ежегодника».
Отечественная война 1812 г.
быльем поросло. А вот эхо научных дискуссий тех лет о Французской революции продолжает звучать в российской историографии и поныне. Именно тогда состоявшийся в ИВИ «круглый стол», посвященный актуальным проблемам изучения этой революции, стал наглядным воплощением наметившейся в отечественной историографии данной темы «смены вех», которая и определила все последующее развитие в России исследований по соответствующей проблематике36.
Чтобы предстоящий 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. тоже стал историографическим Событием, необходима координация усилий всех наших ведущих специалистов, занимающихся ее изучением. И потому инициатива по проведению нашего «круглого стола», с которой выступили Э.М. Вовси и Н.В. Промыслов, оказывается более чем кстати.
Здесь присутствует большинство ведущих московских исследователей Отечественной войны 1812 г. и наполеоновской проблематики в целом, представляющих различные научные центры. Я попрошу всех высказаться по очереди, в алфавитном порядке, о том, как вы оцениваете нынешнее состояние данной историографии и какие исследовательские проблемы кажутся вам сегодня наиболее актуальными. В качестве отправной точки для размышлений предлагаю использовать два дискуссионных текста, любезно предоставленные нам нашими коллегами Э.М. Вовси и В.Н. Земцовым.
В.М. Безотосный37. Я хотел бы поблагодарить устроителей за организацию такого мероприятия и отдельно Э.М. Вовси за смелость, с которой он спровоцировал этот «круглый стол.» Тема заседания мне кажется весьма актуальной. Фактически всего лишь третий раз историки нашей страны на моей памяти обсуждают насущные проблемы историографии эпохи 1812 г.38 Я внимательно прочитал доклад Э.М. Вовси и размышления об историографии В.Н. Земцова. В принципе я согласен с большинством тезисов, выдвинутых обоими авторами. С моей точки зрения главной задачей на сегодня является преодоление противоречий и нестыковок между отечественной и зарубежной историографией и поиск новых
См.: Актуальные проблемы изучения истории Великой французской революции. М.,
1989; Чудинов А.В. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография // ФЕ 2000.
M., 2000; Бовыкин Д.Ю. О современной российской историографии Французской революции XIII века (полемические заметки) // НиНИ. 2007. № 1.
Виктор Михайлович Безотосный, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного исторического музея См. материалы «круглых столов» в редакции журнала «Родина» (Родина. 1992. № 6–7;
– – –
методологических подходов. Если национальная школа историков будет вариться в собственном соку, это в скором времени станет главной причиной ее застоя и загнивания. Такое явление мы воочию наблюдали в советский период, когда существовал идеологический диктат, единственно правильная и ориентированная на классовый подход марксистская концепция истории.
Противоречия между различными национальными школами историографии, как правило, связанны в первую очередь с различиями в корпусе источников, используемых историками разных стран.
Эгоизм национальных историографий объясним. Он обусловлен грузом вековых традиций, субъективными и объективными моментами:
люди воспитывались и обучались в определенной системе координат и жили в определенной политической ситуации, которая, безусловно, оказывала свое воздействие. И к тому же этот национальный эгоизм ранее зиждился на ограниченной источниковой базе: фактически исследователи игнорировали источники противоположной стороны, что было связано в том числе и с языковым барьером.
Э.М. Вовси привел много сведений о развитии современной западной историографии. Зарубежные историки оперируют источниками в первую очередь на английском, немецком и французском языках и не привлекают российские материалы из-за незнания русского, хотя в последние годы и были переведены некоторые мемуары российских участников событий. В свою очередь, у нас огромное количество проблем из-за того, что мы не знаем западных источников. Авторы классических трудов советской историографии, как все помнят, практически не использовали иностранные источники. Историографические обзоры писались исключительно в рамках борьбы с западными фальсификаторами истории.
Несмотря на то что в последнее время в России было издано много немецких и французских мемуаров, у нас практически не введены в научный оборот воспоминания русских участников, написанные на французском языке. Например, фактически не используются мемуары Евгения Вюртембергского, одного из лучших российских генералов эпохи Наполеоновских войн, так как они были опубликованы в 40-х годах XIX в. с устаревшим переводом39. Из воспоминаний генерала Ланжерона издан на русском языке турецкий комплекс, остальные же не переведены40. Даже из мемуаров А.Х. Бенкендорфа опубликован Мемуары Е. Вюртембергского публиковались в нескольких выпусках «Военного журнала» за 1847–1849 гг. См. также: Русский архив. 1878. Кн. 1. № 1–4, Записки графа Ланжерона. Война с Турцией 1806–1812 гг. / Пер. Е. Каменского // Рус
– – –
только 1812 г.41 Сегодня этот интереснейший источник переведен целиком, но его никак не опубликуют, а он важен для тех, кто занимается более широкой тематикой.
Когда в советское время мы только начинали изучать интересующий нас период, у нас из обобщающих трудов имелись только работы П.А. Жилина и Л.Г. Бескровного, по которым массовый читатель так или иначе мог получить представление об эпохе. Только в начале 1990-х гг. был опубликован на русском языке – с задержкой в 30 лет – труд английского историка Д. Чандлера о Наполеоновских войнах, фактически ровесника и Бескровного, и Жилина, но опубликован был отвратительно, с большим количеством ошибок, поскольку готовили его к печати непрофессионалы. Но, прочитав даже этот далеко не лучший вариант, я понял, что мы в свое время упустили многое – это был абсолютно другой подход и совсем иное осмысление событий. На мой взгляд, сегодня очень важно максимально расширять источниковую базу и таким образом ликвидировать препятствия для сближения с западной историографией. Также важно своевременно публиковать работы иностранных авторов, знакомить исследователей с последними новинками западной историографии.
Вот сейчас мы будем праздновать юбилей кампании 1812 г., а на следующий год юбилей 1813 г. Думаю, в Германии это событие незамеченным не останется, потому что немцы всегда считали, что это они сами себя освободили. Русские только слегка помогли. В немецкой историографии успешно применялся старый прием: говорить правду, только правду, но не всю правду. При описании событий 1813 г., не особо кривя душой, немецкие историки просто давали перечисление командовавших войсками генералов: М.Б. Барклай де Толли, Л.Л. Беннигсен, П.Х. Витгенштейн, Ф.В. Остен-Сакен, А.Ф. Ланжерон, Ф.Ф. Винценгерод, П.П. Пален, Евгений и Александр Вюртембергские и другие «русские немцы», которых хватало в российской императорской армии. При этом не упоминалось, что они были на русской службе и командовали русскими войсками. Но ведь на самом деле если бы Александр I увел войска из Европы, а такие разговоры шли в Главной квартире и была определенная партия, которая ратовала за то, чтобы не продолжать военные действия, то через год-два тотальное господство Наполеона над Европой было бы восстановлено. У меня нет в этом никаких сомнений, хотя это и переход к альтернативной истории, но это так. И именно твердость русского императора способствовала окончаЗаписки Бенкендорфа. М., 2001.
Материалы «круглого стола»
тельной победе в 1813 и 1814 гг. Я не хочу умалять заслуги прусских солдат, которые очень хорошо воевали, в отличие от австрийцев, но, тем не менее, 1813 г. мы тоже не должны упускать из виду. И к этому событию тоже нужно готовиться, а не только к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г. Наша историография заграничных походов на удивление бедна: работы за 200 лет по этим сюжетам можно буквально пересчитать по пальцам. Сегодня как никогда актуален справедливый упрек английского историка Д. Ливена всем российским авторам за то, что они сосредоточили основное внимание на изучении 1812 г., а 1813 и 1814 гг. оставили на откуп западным исследователям. Этого делать больше не надо.
Горбунов А.В.42 Хочу поблагодарить устроителей «круглого стола» за предоставленную возможность услышать мнения коллег по наиболее важным проблемам изучения Отечественной войны 1812 г.
Я не совсем согласен с В.М. Безотосным в том, что основная историографическая проблема сейчас состоит в преодолении противоречий между национальными историографиями. Полагаю, что национальные различия и исторические школы, сложившиеся в разных странах, – это нормальное явление. Основные отличия национальных версий Бородинского сражения связаны со степенью участия в нем воинских частей тех или иных европейских народов и последующими изменениями международных отношений – противники в 1812 г.
впоследствии неоднократно становились союзниками. К «битве гигантов» как исключительному историческому событию, которое стоило многих жертв обеим сторонам, невозможно относиться совершенно беспристрастно. Однако это не должно быть препятствием для профессиональной работы историков, их взаимопонимания и научных контактов.
Полностью согласен с тем, что актуальной задачей является введение в научный оборот источников из разных стран, связанных с разными историческими школами. В этом отношении наши отечественные историки несколько опередили англо-американскую историографию и историографии других стран, если судить по работам В.Н. Земцова, А.И. Попова и по тем докладам, что звучали на шестнадцати ежегодных международных научных конференциях «Отечественная война 1812 г. Источники. Памятники. Проблемы», проведенных Бородинским музеем-заповедником. Их тематика соответствовала профилю музейной работы, включая в себя изучение письменных Александр Викторович Горбунов, заместитель директора по научной работе Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Отечественная война 1812 г.
и вещественных источников, памятников истории и культуры эпохи Отечественной войны 1812 г.
Не менее важной задачей является комплексное изучение исторических источников, не только текстовых, но и тех, что относятся к музейным экспонатам: предметов вооружения, обмундирования, военного быта, боеприпасов, произведений изобразительного искусства, созданных участниками и современниками событий. В частности, практически не введен в научный оборот каталог выставки «Здесь – на полях Бородина – с Россией билася Европа…», содержащий данные о более чем тысяче предметов из музеев, архивов и библиотек, связанных с Бородинским сражением43. Современные историки, в отличие от их коллег XIX в., мало внимания уделяют изучению картографических материалов.
Особым источником для изучения ключевых военных событий– сражений являются сами поля сражений. По сведениям А. Пижара, из более чем ста полей сражений Наполеоновских войн 47 в разной степени сохранили исторический ландшафт: они отмечены памятными знаками и имеют музейные экспозиции44. Поля сражений являются объектами культурного наследия, которые отличают сложность состава и разнообразие находящихся на их территории памятников. Расположенные на их территории локальные объекты наследия типологически делятся на памятники – свидетельства сражения (укрепления, захоронения и археологический культурный горизонт), памятные места и памятные объекты – свидетели сражения (поля, леса, реки и ручьи с оврагами и т.д.), памятные знаки (надгробия, памятники воинским частям и проч.), а также объекты наследия, не связанные со сражением (памятники природы, археологии, архитектуры, истории)45. Следовательно, изучение полей сражений необходимо вести комплексно, включая различные направления исследований: исторические, археологические, ландшафтные, архитектурные, картографические, топонимические и другие. Такой подход является плодотворным как для практического решения задач сохранения аутентичности и целостности полей сражений, разработки проектов их реставрации и музеефикации, так и для более обоснованного изучения боевых действий. УбеЗдесь – на полях Бородина – с Россией билася Европа… Выставка, посвященная 195-летию Бородинской битвы. М., 2007.
Горбунов А.В. Сохранение и развитие полей сражений наполеоновских войн как объектов всемирного культурного наследия // Бородино и наполеоновские войны: битвы, поля сражений, мемориалы. М., 2003.
Горбунов А.В. Ландшафт полей сражений: генезис, структура, развитие // Культурный
– – –
дительным подтверждением этому стало присуждение Бородинскому музею-заповеднику в 2007 г. Международной премии ЮНЕСКО им. Мелины Меркури за сохранение и организацию использования культурного ландшафта Бородинского поля. Его изучение позволило решить ряд спорных вопросов расположения и передвижения войск, более достоверно реконструировать картину боя на направлении главного удара Наполеона46.
Отметим также появление интереса к комплексному изучению полей сражений у зарубежных специалистов по изучению культурного наследия из Бирмингемского университета (Великобритания) и Европейской ассоциации культурного наследия47.
В настоящее время Бородинский музей-заповедник совместно с Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева завершает подготовку научно-справочного атласа «Бородинское поле. Культурное и природное наследие». В атлас войдет аннотированный перечень памятников истории, культуры (более 200 объектов), статьи о Бородинском сражении, истории Бородинского музея-заповедника, исторических изменениях и современном природно-географическом состоянии культурного ландшафта Бородинского поля, его топонимике, экологии. Эти сведения будут непосредственно связаны с обширным картографическим материалом, многочисленными историческими и современными иллюстрациями. Атлас зафиксирует результаты изучения Бородинского поля и его состояние через 200 лет после «битвы гигантов».
К юбилею Бородинского сражения в нашем музее-заповеднике будут созданы два мемориальных комплекса. Один, в центре поля у батареи Раевского, будет называться «Недаром помнит вся Россия…».
В нем будут перечислены названия всех полков русской армии. В другом, в Шевардинском парке, около командного пункта Наполеона, под названием «С Россией билась вся Европа», будут перечислены все полки, которые входили в Великую армию. Создание этих мемориальных объектов подчеркнет значение Бородинского поля как объекта всемирного культурного наследия. В новой главной экспозиции «Славься ввек, Бородино» будет более полно показано Бородинское сражение исходя из его русской историографической версии. Ее название отраИвченко Л.Л. Бородинское сражение. История русской версии событий. М., 2009. С. 180-181.
Gorbunov A.V. Battlefields as the heritage sites and their museefication. http://www.gees.
bham.ac.uk/research/ACPP/BA cultural landscape/Alexander. Gorbunov – Battlefields as heritage sites (Rus-Eng).pdf. Alexander. Gorbunov. Borodino as the instance of cultural potential of battlefields //The Best in Heritage. Dubrovnik, 2008. Zagreb: Eropean Heritage Association,
2008. P. 48–51.
Отечественная война 1812 г.
жает место и значение Бородинского сражения в исторической памяти народа и подчеркивает тот факт, что, несмотря на чудовищные жертвы, Бородинское сражение изначально было овеяно ореолом поэзии.
Гордон А.В.48 «Ностальгическая терапия» – общеевропейская проблема, которая обостряется в России со сменой государственности и общественного строя. Политтехнологи откровенно говорят о потребности в объединяющих и мобилизующих мифах, в части которых отчетливо различимы милитаристские и мессианские обертона, придающие столкновениям со странами Запада характер вселенского противостояния по конфессиональным и этно-национальным мотивам.
1812 г. является одним из привилегированных объектов подобной мифологизации: противостояние нашествию «двунадесяти языков» было выделено из 15-летней истории войн с наполеоновской Францией, в которых Россия выступала в той или иной коалиции, а конфликты чередовались с соглашениями. Избирательность выявилась уже в религиозно-монархической традиции, придавшей победе над интервентами характер чудесного спасения, дарованного Благословенному императору, и за благочестие – русскому народу. Венцом официальной трактовки 1812 г. стал культ Христа Спасителя.
Догмат чудесного спасения встретил открытое неприятие части общества: А.И. Герцен писал, что «политической религией» русскому крестьянину служило убеждение, что «у себя на родине он непобедим», и если ему приходилось умирать, то за «неприкосновенность русской земли»49, или, по Лермонтову, – «Уж постоим мы головою / За родину свою!» Идея тотального противостояния, потребовавшего вмешательства высших сил, не подкрепляется национальной традицией, амбивалентность которой в отношении интервентов и их предводителя очевидна. Пиетет к французской культуре, популярность языка сохранялись на протяжении всего ХIХ в. А Наполеон? «Хвала!.. Он русскому народу / Высокий жребий указал / И миру вечную свободу / Из мрака ссылки завещал» (Пушкин А.С. ПСС. Т. 2. С. 60).
Отношение Пушкина, которое полностью разделял и автор «Бородино», было радикально переосмыслено Тютчевым. В период обострения Восточного вопроса говорить о «почившей ненависти» не приходилось. А «завещанная свобода» воспринималась как не прекращавшаяся в Европе революция. Отсюда – переосмысление «жребия»
русского народа. Ссылаясь на пророчество «через 50 лет Европа буАлександр Владимирович Гордон, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.
Герцен А.И. О социализме: Избранное. М., 1974. С. 247.
Материалы «круглого стола»
дет либо под властью революции, либо под властью казаков», поэтдипломат сформулировал постулат европейской политики «Империя (Российская) против Революции».
В сталинский период тема 1812 г., маргинальная для ранней советской историографии, приобрела большую актуальность. Еще до 1941 г. утвердилась официальная позиция, требовавшая раскрытия темы исключительно в плане превосходства русской армии, военного искусства ее командования и героизма солдат и офицеров. А после 1941 г. возобладала тенденция к калькированию русско-французской войны по образу тотального противостояния с фашизмом: «зверства оккупантов» (сожжение Москвы, подрыв кремлевских соборов), мародерство, расстрелы мирного населения.
Тем не менее амбивалентность в отношении Наполеона сохранялась: драматическая история книги Тарле (1936) – яркое тому подтверждение. Несмотря на жесткую партийную критику, требовавшую развенчания французского императора, историк продолжал переиздавать его биографию без серьезных изменений. Симпатия вождя служила охранной грамотой.
Дореволюционная схема официальной историографии была радикально изменена. Роль спасителя, изъятая у Александра I, досталась Кутузову, подчеркивалось расхождение фельдмаршала с царским двором, на который возлагалась вся вина за неудачи. Напротив, стратегия и тактика Кутузова расценивались как безупречные в сталинском духе: «Наш гениальный полководец Кутузов загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления».
Новизной отличалась и трактовка сил, противостоявших Кутузову. Послевоенная кампания борьбы с «низкопоклонством» обернулась в освещении 1812 г. разоблачением «немецкого засилья» в штабах.
Больше досталось Беннигсену, но не пощадили и Барклая де Толли. В противовес последнему героем первого этапа войны был сделан Багратион. Подмена вошла в историческое сознание. Будучи уже студентом истфака ЛГУ, я разглядел, что «напарником» Кутузова перед Казанским собором является вовсе не Багратион. Еще любопытнее «казус»
начала 80-х гг., рассказанный мне Ниной Владимировной Ивочкиной.
Едет автобус с группой сотрудников Эрмитажа по Южной Эстонии.
Водитель окликает прохожего: «Дед, где здесь могила Багратиона?»
Тема заграничного похода русской армии подавалась явственно в виде аллюзии перехода Красной армии через границу – как освоОтечественная война 1812 г.
бождение порабощенных народов. А тема Священного союза и роли русского царя как «жандарма Европы» хотя и не исчезала совсем, но совершенно отрывалась от освободительного похода. Лишь у Б.Ф. Поршнева я нашел осмысление возникшей коллизии со всеми ее аллюзиями, которые в эйфории 1945 г. вряд ли могли прийти в голову и ему:
Несколько веков рваться к Европе, титаническим натиском сломить «барьер», триумфатором и освободителем вступить в круг европейских народов – и в итоге не только ничего не принести им, кроме торжества ими же отвергнутой реакции, но и самой не получить ничего50.
Связь двух отечественных войн придавала теме 1812 г. специфическую «режимность». А.З. Манфред лишь в конце 60-х гг. ощутил возможность (а он всегда хорошо знал, что дозволено) реализовать мечту о биографии Наполеона51. Вышедшая в 1971 г., она имела колоссальный успех, разойдясь в читательской среде, несравненно более широкой, чем профессиональное сообщество. Миновали Большой террор, Великая война, запредельный культ советского вождя и его разоблачение, а популярность чужеземного правителя в стране не пострадала.
Можно ли, сопоставляя восприятие Наполеона двумя историками – Тарле и Манфредом, все-таки говорить об изменении общественного мнения с 1936 г.?
Безусловно. Книга Манфреда оказалась тираноборческой не в конъюнктурном плане «разоблачения последствий культа личности», а в самом фундаментальном – с точки зрения последствий культа для самой личности. Ибо Манфред, подобно своему предшественнику, несомненно симпатизировал Наполеону как личности выдающейся. Но притом он решительно отказался от клише «деспота по натуре, самодержца с головы до ног», за что, кстати, критиковали Тарле его современники, считавшие, что тем самым он обеднил личность Наполеона.
Перенос внимания на личностный аспект, раскрытие личности революционера, ставшего императором, в динамике и многообразии наиболее знаменательны. Далекий от стереотипа «абсолютная власть портит абсолютно», Манфред вместе с тем показал, как поэтапно происходила деградация выдающейся личности и как личностная катастрофа предшествовала катастрофе политической. Один момент.
Историк настоятельно подчеркивал, что Наполеон Бонапарт на пути к власти, а затем в ее реализации был не одинок, что его успех обеспечиПоршнев Б.Ф. К вопросу о месте России в системе европейских государств в Х– ХIII веках // Уч. записки АОН. Вып. 2. Вопр. всеобщей истории. 1948. С. 32.
См. подробнее: Гордон А.В. А.З. Манфред – биограф Наполеона (советская наполеонистика
– – –
ла группа талантливых молодых военных – «когорта Бонапарта». И вот с усилением власти, ее превращением в единоличную происходит утрата среды полноценного общения, что приводит к духовному одиночеству, в конечном итоге – к «духовному одичанию» героя.
Знаменательно и то, что Наполеон у Манфреда оказывался провозвестником франко-русского союза 1893 г. Сама идея трактуется как «новое слово», внесенное Наполеоном во французскую внешнюю политику, а сформулированный в 1801 г. вывод «Франция может иметь союзницей только Россию» выглядит в книге политическим завещанием. Что же помешало императору воплотить его в жизнь самому?
Оставляя на втором плане логику международных коалиций и проанглийские настроения царского двора, историк указал на свойство единоличной власти – развивавшееся «самоослепление».
Итак, пиетет к Наполеону сохранялся при всех перипетиях национальной истории, открываясь в них разными сторонами. Очевидно, интерес в России к главному «антигерою» Отечественной войны выходил за рамки 1812 г., а его восприятие могло расходиться с официальноодносторонней интерпретацией. Это не может не внушать оптимизм.
Каким бы основательным ни было воздействие «политики памяти» на историческое сознание, в национальной культуре сохраняются глубинные принципы и автономная динамика. Долг профессионального историка – противостоя навязыванию идеологических мифов, не упускать из виду потребности общества в культивировании исторической памяти.
Ивченко Л.Л.52 Прежде всего, следует поблагодарить устроителей «круглого стола» за предоставленную возможность обменяться мнениями по животрепещущей теме: как обстоят дела с историографией Отечественной войны 1812 г. накануне ее 200-летнего юбилея, что сближает и разъединяет российских исследователей не только с зарубежными коллегами, но подчас и друг с другом. Нельзя не согласиться с мнением В.М. Безотосного, что поиск и публикация новых источников – явление положительное. Но, прочитав текст не менее уважаемого мною коллеги В.Н. Земцова, я поняла, что безоговорочно отношусь к скучной категории «историографов». Без такой вспомогательной дисциплины, как историография, другая дисциплина – источниковедение, на наш взгляд, существенно обесценивается. Изучение источников вряд ли принесет пользу исследователю, если в качестве методологической основы он использует исключительно свой здравый смысл, полагая, что таким способом спасает себя от пагубного влияЛидия Леонидовна Ивченко, кандидат исторических наук, главный хранитель Музея
– – –
ния идеологии. «Идеология, идея присутствует в исторической памяти всегда», – на наш взгляд, справедливо отмечает современный исследователь53. Прочитав в книге западного автора о том, что на Пиренеи и в Россию Наполеона занесло исключительное «наваждение идеей мира»54, понимаешь, что идеологическим мифотворчеством можно заниматься в любой стране и в любое время.
Повторюсь, расширением источниковой базы всех проблем не решить.
Мне чрезвычайно близко суждение французского историка:
«Для того, чтобы заниматься критикой документа, надо уже быть историком, так как, по существу, критика документа означает сопоставление со всем тем, что уже известно о рассматриваемом в нем предмете, о месте и времени, о которых он рассказывает. В каком-то смысле критика и есть история. И она становится все более утонченной по мере того, как история углубляется и расширяется»55. Ярким примером тому может служить историография Отечественной войны 1812 г., особенностью которой является то, что в ней по разным причинам историографическая версия изначально довлела над знанием, почерпнутым из источника. У истоков версий, которые борются в нашей историографии почти 200 лет, стояли участники тех событий – М.Б. Барклай де Толли, Л.Л. Беннигсен, К.Ф. Толь, А.П. Ермолов и др. Исследователь событий сталкивается и с другой проблемой – невозможностью реконструкции сбалансированного научного знания из-за нехватки источников. Например, М.И. Кутузов, в отличие от своих оппонентов, не оставил после себя ни писем, ни мемуаров, содержащих концептуальный взгляд на события 1812 г. После него остались тома оперативной документации, в качестве комментария к которым в последнее время все чаще используется мнение его оппонентов-мемуаристов. Если бы полководец не скончался в 1813 г., а имел бы возможность продиктовать свои воспоминания, как это сделал Наполеон на Святой Елене, то, при известном красноречии М.И. Кутузова, мы бы сейчас имели совсем другую историю Отечественной войны 1812 г. Так что для историков отсутствие определенных источников – проблема подчас не менее важная, чем их наличие.
На наш взгляд, значимость информации, заключенной в источнике, значительно теряется без изучения «целеполагания» его создателя. Нельзя забывать, что историческое исследование со временем Румянцева М.Ф. Историческая память и музейная экспозиция в ситуации постмодерна// XIII век в истории России. Труды ГИМ. М., 2005. С. 10.
Франчески М., Вейдер Б. Наполеон под прицелом старых монархий. М., 2008. С. 5.
– – –
становится историческим источником, который несет информацию о своем авторе и времени, в которое он создавался. Я с большим интересом прочитала статью присутствующего здесь А.В. Гордона, посвященную двум нашим знаменитым биографам Наполеона56. С началом перестройки многие отечественные исследователи решили, что все наши беды проистекают оттого, что мы недооценили роль Наполеона в истории. Но Е.В. Тарле и А.З. Манфред сделали это на высочайшем профессиональном уровне: будучи сами выдающимися личностями, они писали о личности! Кроме того, как явствует из статьи А.В. Гордона, тема Наполеона была «режимной», в обоих случаях это был гениально исполненный идеологический заказ: Наполеон у Тарле – «выдающаяся личность правителя, устанавливающего твердый государственный порядок в постреволюционном обществе», а Наполеон у Манфреда – «солдат революции» и «убежденный сторонник союза с Россией», на пути к власти постепенно достигший «духовного одиночества».
Проблемы изучения событий Отечественной войны 1812 г., всей эпохи Наполеоновских войн, не исчезнут после публикации новых источников, потому что, на наш взгляд, самой главной проблемой для исследователей остается вопрос о методологии исследования. Как относиться к источнику? В сущности, в центре всего исторически сложившегося комплекса знаний об Отечественной войне 1812 г. стоит проблема «автора». Поэтому изучение целеполаганий как создателей исторических источников, так и создателей исторических сочинений представляется одинаково важными. Я согласна с тем, что мы должны сблизиться с западными исследователями, и перевод источников, недоступных по причине «языкового барьера», этому может, безусловно, способствовать. Но что такое источник без внутренней критики, без полноценного научного комментария? Например, на английский язык переведены «Записки» А.П. Ермолова. Но это очень сложный источник с точки зрения выяснения целеполагания автора, который описывал события так, как они ему виделись. Возникает вопрос к тому, кто выполнил перевод: как он сумел передать авторские интонации, в которых заключено очень многое? Как объяснил использование автором многочисленных «латинизмов», его злую иронию? Для этого мало быть переводчиком, нужно быть стилистом. Конечно, в Ермолове воплотился дух времени, дух эпохи, но нужно иметь много «внеисточникового знания», чтобы оценить его мемуары как источник по войне 1812 г. Вот Н.А. Дурову переводить легко, потому что ее записки литеГордон А.В. А.З. Манфред – биограф Наполеона (советская наполеонистика от 1930-х к
– – –
ратурно обработал А.С. Пушкин; следовательно, у этого источника два автора. Английский специалист Дж. Хартли использует российские источники в монографии об Александре I57, комментирует их, вероятно, с точки зрения бытового здравого смысла, но для русского историка ее труд – сочинение о «русской экзотике». В числе лучших зарубежных исследований я бы назвала работы британского исследователя Д. Ливена. Мне особенно интересной показалась его статья о российской историографии, где он указал на ряд существенных наших недостатков, которые, очевидно, бросаются в глаза человеку со стороны. Он справедливо указал на то, что российские историки «зациклились» исключительно на описании военных действий и исключительно русскофранцузских. Мы игнорируем политические, экономические проблемы; в нашей историографии непопулярны мнения и интересы третьих сторон: Великобритании, Голландии, Испании, Португалии и др. Это препятствует созданию сбалансированного научного взгляда на события в Европе 1813–1814 гг. Мы так и не смогли провести объективный анализ вклада России в «Большую европейскую войну». Сравнительно недавно к теме взаимоотношений России и Великобритании в этот период обратился А.А. Орлов58. Его книга расширила горизонт исследований, позволив взглянуть на события эпохи под другим углом.
В нашей историографии и по сей день бытует мнение, что в Наполеоновскую эпоху Россия упустила великолепную возможность покончить с влиянием алчной Британии, заключив выгодный экономический союз с Францией. При этом авторы ссылаются на очень основательную монографию Е.В. Тарле «Континентальная блокада»59.
Внимательно перечитав ее, мне так и не удалось обнаружить того, что подразумевают современные апологеты союза с Наполеоном. Приведенные в книге данные показывают, что разрыв русско-британской торговли после Тильзитского мира нанес удар не только по русской экономике, но и по французской: россияне должны были продавать свой товар англичанам, чтобы иметь деньги для приобретения товаров во Франции. Это и есть главный вывод монографии.
Безусловно, историки должны работать вместе, потому что только так мы сможем избавиться от ошибок и односторонних суждений. Массовое издание в России в последние годы французских источников (без комментариев) привело к удивительному историографическому явлению: многие мои коллеги стали смотреть на события Хартли Д.М. Александр I. Ростов н/Д., 1998.
Орлов А.А. Союз Петербурга и Лондона. СПб., 2005.
Тарле Е.В. Континентальная блокада. М., 1913.
Материалы «круглого стола»
тех лет глазами «ветеранов Великой армии». Это неудивительно, приняв во внимание традиции нашей культуры, где французам отводилось особое место. Но, как отметил Э. Вовси, волей-неволей теперь мы все говорим по-английски. Наши дети вместо романов А. Дюма с удовольствием читают «День гнева» А. Переса Реверте, «Хорнблауэра»
С.С. Форестера и «Стрелка Шарпа» Б. Корнуэлла. А это уже совсем другой поворот общественного запроса к историку, который не существует вне общества.
Промыслов Н.В.60 Мне хотелось бы обратить внимание собравшихся на значение изучения представлений народов друг о друге.
Основы современного западного общества во многом были заложены в ходе модернизации, развернувшейся в Европе с конца XIII – начала XIX в., когда начинался процесс формирования европейских наций. Именно тогда, с одной стороны, наметился рост влияния широких слоев общества на внешнюю и внутреннюю политику государств, с другой – отчетливо проявилось стремление правительств управлять общественным мнением, чтобы обеспечить широкую поддержку своим действиям. В частности, для идеологического обоснования тех или иных внешнеполитических акций государственная пропаганда старалась целенаправленно формировать в общественном мнении образ тех народов, в отношении которых подобные акции предпринимались.
Для формирования национального самосознания важную роль играет противопоставление «свой – чужой». Граница между «своими»
и «чужими» не является постоянной, но меняется в процессе исторического развития. Контакты с другими культурами приводят к изменению этой границы и всякий раз новому определению собственной культуры. Для европейцев важным конституирующим «другим» в силу ряда причин стала Россия.
В последние десятилетия все больше исследователей обращают внимание на изучение вопросов взаимных представлений. Интерес к теме подогревали теоретические работы Э. Саида61, Б. Андерсона62, И. Ноймана63. Основополагающей для изучения взаимных представлений европейцев об окружающих народах в XIII–XIX вв. стала книга Л. Вульфа64, освещающая эпоху до начала Французской революции.
Для изучения образа России до сих пор не потеряли своего значения Николай Владимирович Промыслов, младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.
Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока. М., 2006.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
Нойман И. Использование Другого. М., 2004.
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просве
– – –
классические труды А. Лортолари65, занимавшегося в основном эпохой Просвещения, и Ш. Корбе66, который начал свой труд с небольшого обзора Наполеоновской эпохи, сконцентрировавшись затем на франко-российских отношениях от Реставрации до заключения союза между двумя странами в 1890-х гг. Из отечественных работ назову книгу С.А. Мезина67, которая хотя и посвящена в первую очередь восприятию в Европе Петра I и его эпохи, но затрагивает и реалии рубежа XIII–XIX вв., в частности историю «Завещания Петра Великого».
Эпоха Революционных и Наполеоновских войн имеет особое значение для изучения взаимных представлений ввиду того, что огромные массы людей из самых разных слоев общества передвигались по странам Европы и Ближнего Востока и могли воочию увидеть то, о чем раньше лишь читали в путевых заметках и сочинениях различных философов и литераторов, авторы которых часто даже не бывали в тех странах, о которых писали. Эпоха Наполеоновских войн породила огромное количество сочинений, прямо или косвенно посвященных таким прежде малознакомым для западноевропейцев странам как Египет, Россия, Польша. Эти сочинения оказали огромное влияние на европейское общество, закрепив в исторической памяти множество стереотипов, которые продолжают жить до сих пор.
Во многих обобщающих работах по имагологии в качестве основных источников для изучения образа России используются обычно мемуарная литература или историко-публицистические труды. Напротив, пресса и источники личного происхождения часто остаются незадействованными. Огромный комплекс мемуарной литературы, оставшийся от той эпохи, безусловно предоставляет широкое поле для исследований по исторической памяти. Именно в мемуарах отразились переживания и размышления участников походов об особенностях увиденной ими страны. В то же время опора исключительно на мемуарные источники опасна. На примере «Мемуаров Р. Гийемара»
В.Н. Земцов68 продемонстрировал необходимость серьезной источниковедческой критики каждого сочинения, ибо то, что порой заявляется как беспристрастный взгляд очевидца, может оказаться на деле литературной обработкой ранее вышедших произведений.
Lortholary A. Les “philosophes” du dix-huitim sicle et la Russie: le mirage russe en rance au XIIIe sicle. P., 1951.
Corbet Ch. L’re de nationalismes. L’opinion franaise face l’inconnue russe. P., 1967.
Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы XIII века о Петре I. Саратов, 2003.
Земцов В.Н. Необычайные и удивительные приключения Робера Гийемара, сержанта 9-го линейного полка, или пленные французы в уральской глуши в 1812–1814 гг. // Уральский исторический вестник. 2008. № 1(18). С. 116–125.
Материалы «круглого стола»
Изучение образа России в эпоху Наполеоновских войн в последние 10–15 лет становится все более и более популярной темой в историографии. Работы М. Губиной касаются пребывания русской армии во Франции во время первого и второго заграничного походов.
В них показано влияние пропагандистских установок Первой империи на формирование стереотипов общественного сознания, а также затрагивается вопрос о живучести этих стереотипов при столкновении с реальностью69. Изучению пропагандистских материалов и публикаций в прессе посвящены также некоторые мои статьи70. Материалы газет и бюллетеней Великой армии позволяют проследить процесс и основные механизмы целенаправленного формирования общественного мнения, в чем император французов был непревзойденным мастером. Дополнение пропагандистских материалов источниками личного происхождения, одновременных описываемым событиям, позволяет изучить вопрос об устойчивости стереотипов при столкновении с реальностью.
Вопросам формирования исторической памяти о русской кампании 1812 г. посвящены работы В.Н. Земцова. В ряде статей и монографии описывается процесс формирования французской версии Московского пожара 1812 г.71 Все исследования по образу России в период Революционных и Наполеоновских войн касаются лишь небольших сюжетов, обобщающего же труда пока нет. Кроме того, несмотря на значимость эпохи для формирования национальных идентичностей во всех странах, прямо или косвенно вовлеченных в конфликт, большинство исследований носит явно европоцентристский характер. Изучают взгляд европейцев на Россию, Америку, Египет или Восток в целом, с разными географическими границами. Представления европейских народов друг о друге также изучаются весьма подробно. Однако до сих пор слабо изучен «обратный» взгляд. Ведь для России начало XIX в. тоже стало важным этапом формирования нации, и в этом процессе Отечественная война и Заграничные походы имели большое значение. Эти кампании стали рубежными для формирования великорусской идентичности, для которой конституирующим «другим» стали не только «далекие» страны и народы, как, например, Франция72, Англия и т.п., но и народы, живГубина М.В. Особенности образа России и русских в сознании французских современников в 1814–1818 гг. // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. М., 2002.
Вып. 2. С. 153–162.
Например, Промыслов Н.В. Образ России на страницах газеты Le Moniteur Universel в 1811–1812 гг. // Россия и Франция: исторический опыт XIII-XIX веков. М., 2008.
Земцов В.Н. Наполеон в Москве (Наполеон, его солдаты и Россия)//ФЕ 2006. М., 2006.;
Он же. 1812 год. Пожар Москвы. М., 2010.
Губина М.В. Образ Франции в представлениях русских современников. По материалам их путевых записок (1814–1827) // Россия и Франция. XIII–XX века. М., 2003. Вып. 5; Она Отечественная война 1812 г.
шие в Российской империи: немцы73, в том числе остзейские74, поляки, евреи, народы Кавказа и Поволжья. И тем более интересным представляется проведение сравнительного исследования по взаимным представлениям народов двух, трех и более стран друг о друге.
Смирнов А.А.75 Я бы хотел поддержать высказанную А.В. Гордоном мысль о том, что из современных исследований исчез солдат, представитель народа. В любом музее вы увидите портреты генералов, комплексы их личных вещей. На памятниках Бородинского поля, на досках в храме Христа Спасителя – нигде нет фамилий нижних чинов, а лишь указано количество погибших. И это стало какой-то непонятной «традицией», продолжающейся независимо от политического строя страны. Сегодня, создавая в рамках Государственного исторического музея музей Отечественной войны 1812 г., мы столкнулись с этой проблемой и пытаемся хоть как-то показать солдата не только в рукопашном бою, но и чем и как жил он в быту. Мы до сих пор не знаем, как он готовил пищу, а питание – важный элемент жизни солдата.
В Историческом музее стоит «походная кухня Наполеона». Но это экспериментальная кухня, которую бросили во время отступления. В широком применении походные кухни в армии официально появились только в период Русско-японской войны, причем не только в русской армии, но и во французской и в немецкой. Мы стараемся музейными средствами показать бытовую сторону жизни солдата, но это крайне трудно при почти полном отсутствии соответствующих экспонатов.
Насколько успешно нам удастся решить такую задачу, сегодня ответить невозможно.
Теперь о проблематике изучения войны 1812 г. Я, может быть, недостаточно искушен в этих вопросах, но во многих работах, начиная с А.И. Михайловского-Данилевского, часто пишут: «поставили батарею на такую-то позицию, и она там что-то подавила». Но я не видел нигде анализа того, а могли ли эти орудия в принципе выполнить такую задачу. Потому что из нынешних историков – а я много работ читаю – никто не знает порядка боевого применения оружия. Тут много же. Франция в восприятии российских военных: эволюция стереотипов (1814–1818) // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. М., 2000. Вып. 1.
Оболенская С.В. Германия и немцы глазами русских (XIX век). М., 2000.
Безотосный В.М. Национальный состав российского генералитета 1812 года // ВИ.
1999. № 7. С. 60; Михайлова Ю.Л., Промыслов Н.В. Прибалтийские немцы и русское общество в 1812 году: к проблеме формирования образа // Россия и Балтия. М., 2008. Вып. 5.; Таннберг Т. Остзейский вопрос во внутренней политике России в 1806–1807 гг. // Россия и Балтия.
М., 2004. Вып. 3.
Александр Александрович Смирнов, главный научный сотрудник Государственного исторического музея.
Материалы «круглого стола»
говорили о В.Н. Земцове. Если обратить внимание на его раннюю работу о Бородинском сражении76, то у него ни слова не было вообще об оружии. Такое впечатление, что не имело значения, сражаются ли с огнестрельным оружием или с палками в руках. Действия можно описать одинаково и в том, и в другом случае. Получается, что оружие остается в тени. Применение тактических приемов, атака колонной или построение в каре зависели от возможностей оружия, что, собственно, и определяло действия армии. А мы не интересуемся оружием и не знаем его. Происходит это, как мне кажется, от некоторых издержек гуманитарного образования, боязни любого технического устройства или механизма. Я с этим столкнулся, когда пытался музейным сотрудникам объяснять калибры артиллерийских орудий. Как определить калибр, если у нас его мерили в мерах массы (в фунтах), а за рубежом применяли линейные меры, то есть дюймы. Есть простейшее соотношение, выведенное еще в XI в., но, когда я стал о нем рассказывать, мне из зала была брошена реплика: «Только, пожалуйста, без математики».
Чтобы строить объяснения тех или иных эпизодов или событий в целом, необходимо, во-первых, оценивать потенциал страны:
какими техническими и экономическими ресурсами она обладала, как это влияло на вооружение ее солдат и какие возможности давало это оружие. Так, П.А. Жилин в известной работе77 даже не говорит о том, сколько было орудий у противоборствующих армий, а приводит только численность солдат. В работе Д. Чандлера, упоминавшейся здесь, говорится, что сразу после войны, в 1815 г., англичане закупили образцы всех орудий воевавших государств, провели их практические испытания у себя на полигоне и составили таблицу эффективности орудий.
Я согласен с тем, что при описании событий войны 1812 г. надо учитывать различные источники. Но мы вот говорим об издании французами переписки Наполеона, а у нас самих нет даже издания всех писем Кутузова, а есть лишь отдельные из них в переводах, поскольку он часто писал на немецком и французском языках. Но когда сопоставляешь эти переводы, получаются разные тексты. Так что хоть и хочется все успеть, но только жизни на это не хватит.
Хомченко С.Н.78 Мне в первую очередь хотелось бы сказать о Земцов В.Н. Битва при Москве-реке: Армия Наполеона в Бородинском сражении. М., 1999.
Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1968 Сергей Назарович Хомченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Отечественная война 1812 г.
степени изученности российских архивов. Центральные, в первую очередь РГВИА, относительно хорошо изучены, но мне часто доводилось бывать и в провинциальных архивах, и там много интересных документов, в оборот не введенных. Некоторые ссылки на такие материалы встречаются в научных сборниках региональных вузов, часто в студенческих работах. Провинциальные историки, например, зачастую используют местные архивы, не зная материалов центральных архивов, в результате их работы получаются несколько односторонними. Местные архивные залежи требуют более глубокого изучения на предмет поиска источников по Отечественной войне. Это относится к различным регионам Центральной России, Поволжья. Даже в Сибири есть информация по 1812 г.
Диссертацию свою я писал о военнопленных из наполеоновской армии в России79 и много черпал информации как раз из местных архивов. Взять для примера списки пленных. По ним можно установить, кто из числа военнопленных где служил, где попал в плен, при каких обстоятельствах. Такая статистика может хорошо дополнить сведения и о крупных сражениях, и о мелких стычках в определенной местности. Вдвойне интересно, когда такие архивные данные сопоставляются с другим видом источников – мемуарами участников событий, как с той, так и с другой стороны.
В последние годы мне несколько раз доводилось отвечать на запросы людей, считающих себя потомками военнопленных. Некоторым удалось помочь, и я этому рад. Люди ищут своих предков – можно сказать, просыпается историческая память.
Что касается сотрудничества с иностранными коллегами, изучающими эпоху 1812 г., то, на мой взгляд, главная помощь, которую мы можем друг другу оказать, заключается в публикации источников, в первую очередь архивных. В ту же самую Францию просто так не съездишь за документами, а если они будут, скажем, выложены в Интернете или опубликованы в сборнике или монографии – это было бы очень хорошо. Хотелось бы также, чтобы зарубежные научные работы были представлены в виде аннотаций в нашей исторической периодике, а наши работы – в зарубежной.
Еще одним источником по истории Отечественной войны 1812 г. являются археологические находки на местах сражений. Последние 7 лет такие исследования на Бородинском поле проводятся сотрудниками Государственного исторического музея под эгидой Госу
См.: Хомченко С.Н. Военнопленные армии Наполеона в Поволжье и Приуралье в 1812 –
Материалы «круглого стола»
дарственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Информация постепенно накапливается. Привязывая те или иные находки к конкретному месту, уже можно делать первые выводы.
Анализируя найденные боеприпасы (пули, картечь, осколки гранат, ядра), места их скоплений, можно предполагать, кто вел огонь, по кому, откуда, в каких условиях и т.п. По находкам номерных французских пуговиц можно проследить передвижения полка на поле сражения, иногда на значительном для сражения расстоянии. Самый яркий пример такого рода находок – найденный в 2007 г. фрачный вариант Ордена Воссоединения. На Бородинском поле сражался только один человек, имевший его, – известный генерал Огюст Коленкур, погибший при штурме батареи Раевского. Соответственно там и был найден этот орден, благодаря чему место гибели Коленкура можно указать с высокой степенью точности. В других местах боев, в частности под Тарутином, тоже проходят подобные археологические раскопки. Находки позволяют уточнить и дополнить данные письменных источников.
Мне, как участнику движения исторической реконструкции, кажется, что в первую очередь деятельность таких групп хорошо популяризирует историю 1812 г., дает наглядное представление о том, как выглядели военнослужащие в ту пору, как велись боевые действия, как был организован военный быт. Особенно полезно это для детей и подростков, когда не на картинке, а, что называется, живьем можно увидеть солдата той или иной армии, услышать команды на разных языках, звуки выстрелов и звон холодного оружия, понюхать пороха в прямом смысле слова. Здесь действует принцип «лучше один раз увидеть». Ну и, конечно, это прекрасная помощь преподавателям, приглашающим реконструкторов на уроки или приводящим учеников на военно-исторический праздник. Десятки тысяч людей ежегодно приезжают на Бородинское поле, чтобы увидеть живую Историю. Так что польза реконструкции, по-моему, сомнения не вызывает.
Целорунго Д.Г.80 За последние 20 лет в отечественной историографии Отечественной войны 1812 г. и Наполеоновских войн было многое сделано. В первую очередь, был введен в научный оборот большой комплекс иностранных мемуаров, главным образом французских и немецких. Заметно чаще мы стали обращаться к работам зарубежных историков. Вместе с тем немногочисленные материалы из зарубежных архивов если и использовались российскими исследователями, то, по преимуществу, те, что опубликованы в «классических» работах французских историков XIX в.
Дмитрий Георгиевич Целорунго, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Отечественная война 1812 г.
Причины тому разные: недоступность зарубежных архивов для российских исследователей по экономическим причинам, отчасти – языковый барьер и, как следствие, слабые личные контакты с зарубежными коллегами. Такое положение дел не могло не сказаться на работах отечественных историков и, в первую очередь, тех, кто занимается историей похода Великой армии в Россию в 1812 г. Нередко у исследователя возникает соблазн вместе с контекстом зарубежного источника позаимствовать и идеологию «проигравшей стороны», которая таковой себя отнюдь не считала. Здесь надо отметить попытки осмысления Наполеоновских войн современными исследователями с опорой на достижения французской историографии XIX в. и стремление опереться в своей работе на мемуары как на основной источник. Долгие годы среди российских исследователей бытовало мнение, что практически все документы Великой армии за 1812 г. погибли и в архивах, за редким исключением, не отложились. Эти заблуждения постепенно развеиваются, и сегодня очевидно, что архивы Франции хранят большое количество документов, относящихся к кампании Наполеона в России.
Хочется надеяться, что информация из зарубежных архивов будет для нас более доступна, благодаря развитию контактов с нашими зарубежными коллегами на научных конференциях, и вот на таких «круглых столах». Нельзя недооценивать и возможности Интернета как для контактов с коллегами по всему миру, так и для публикации архивных документов.
Со своей стороны, хочется обратить внимание на то, что круг научных интересов современных отечественных историков, изучающих Отечественную войну 1812 г., не ограничен только сугубо военной проблематикой: не остаются без внимания социальные и духовные аспекты жизни воинов. Появился ряд исследований, которые можно отнести к микроистории и исторической антропологии, а также к сравнительно новому исследовательскому жанру – просопографических баз данных81. Под последним подразумеваются исследования массовых источников личного происхождения с целью создания на основе их статистического анализа динамических «коллективных биографий»
определенных социальных групп.
В Бородинском музее-заповеднике уже более 20 лет идет работа по созданию просопографической базы данных «Воины россий
Ивченко Л.Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. М., 2008;
Малышкин С.А. Человек в Бородинской битве: опыт историко-антропологического исследования // Отечественная война 1812 года: Источники. Памятники. Проблемы. Бородино, 1998;
Целорунго Д.Г. Офицеры русской армии – участники Бородинского сражения. М., 2002.
Материалы «круглого стола»
ской армии – участники Бородинского сражения». Эта база сформирована из данных формулярных списков 2264 генералов и офицеров, 2029 унтер-офицеров и 1048 рядовых солдат, таким образом, мы располагаем 5341 биографией воинов. Кроме этих развернутых сведений имеются краткие (Ф.И.О., чин, воинская часть) на еще более чем 6000 офицеров и солдат участников сражения. Все эти данные нашли отражение в научно-справочных материалах82.
В ходе научных исследований на основе нашей просопографической базы данных получены новые сведения о сословной структуре офицерского корпуса российской армии 1812 г. и солдатского контингента, о порядке прохождения службы, о боевом опыте, боевых отличиях, имущественном положении, возрасте, образовательном уровне, семейном положении генералов, офицеров и солдат. В наших исследованиях использованы методологические подходы исторической антропологии и микроистории. Так, на основании обработки данных был получен усредненный социально-антропологический портрет русского рядового солдата 1812 г. Микроисторический подход помог обоснованно распространить наши выводы, полученные в ходе обработки базы данных «Воины российской армии – участники Бородинского сражения», на всю русскую армию 1812 г.
В литературе высказывается мысль, что в исследованиях, выполненных на основе просопографических баз данных, стало возможным преодоление «кризиса исторической науки». Постепенно и не только с помощью просопографических баз данных, а с применением также и более сложных методов, как, например, математическое моделирование исторических процессов, будет преодолено давнее отставание методического инструментария исторической науки от естественных наук, но это проблема всей исторической науки XXI в.
Шеин И.А.83 При общем положительном впечатлении, которое оставляют комментарии В.Н. Земцова к докладу Э.М. Вовси, хотелось бы высказать возражение по поводу его обобщающего тезиса о том, что «неполезность» работы историографа явно перевешивает «пользу».
Это положение исследователь аргументирует тщетностью тех «указаний на перспективу», которые строятся на основе историографических работ. По его утверждению, каждый из «практикующих» историков вырабатывает свой собственный исследовательский метод, более или менее органично связанный с уровнем его квалификации, профессиоБезотосный В.М., Целорунго Д.Г. Бородино. Русское поле. Русские полки. Русские офицеры. М., 2010.
Игорь Александрович Шеин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Военного
– – –
нальной и гражданской честности, характером миросозерцания и материальными возможностями.
С одной стороны, это действительно так. Но, с другой, – логика подобных рассуждений о «неполезности» работы историографа ведет к тому, что любой низкопробный опус может быть причислен к научному исследованию, ибо выбранный «недоучившимися, но очень амбициозными халтурщиками» «исследовательский» метод законен и оправдан, поскольку он соответствует их низкой «профессиональной квалификации», не говоря уже о сомнительной «профессиональной и гражданской честности».
Иными словами, из рассуждений В.Н. Земцова напрашивается вывод: любую «околонаучную продукцию» можно и даже нужно оставлять вне критики. Но почему же тогда время от времени в периодической печати вспыхивают «войны перьев», в которых дискутирующие стороны зачастую весьма эмоционально ищут друг у друга «кладезь ошибок» методологического, историографического и конкретноисторического характера? И зачем тогда В.Н. Земцову благодарить А.И. Попова, пытающегося в «свободный часок» «поставить на место грюнбергов и хлесткиных, которых, по мере приближения юбилейных торжеств, становится все больше и больше»?
В данном контексте уместно привести высказывание известного военного историка второй половины XIX в. Г.А. Леера, сделанное по другому поводу, но созвучное предмету настоящей дискуссии: «Без критического отношения к изучению факта военная история обращается в балласт, пригодный только для засорения голов. Только благодаря здравой и разумной критике военная история и делается лучшей школой для изучения военного дела»84. Это образное утверждение можно отнести и к историографическим исследованиям.
Кстати сам В.Н. Земцов отнюдь не отрицает и вполне принимает, как следует из его текста, общеизвестный постулат: без историографии, без критического изучения уже созданного массива литературы нельзя двигаться вперед. Именно поэтому он считает, что заниматься историографией полезно. К этому добавим: и важно, в первую очередь для развития самой исторической науки.
Справедливости ради заметим: даже самое обстоятельное произведение в свете научной критики вряд ли останется идеальным и в нем при желании всегда можно отыскать серьезные недостатки. Все зависит от цели, которую ставит перед собой оппонент, и от его методологического подхода. Но далеко не каждый историк готов принять на Леер Г.А. Стратегия: тактика театра военных действий. СПб., 1896. Ч. 1. С. 91.
Материалы «круглого стола»
себя неблагодарную, но необходимую роль «дезинфицирующего начала» в современной историографии, увеличивая своими критическими статьями количество недругов, в том числе и из бывших друзей85. В этом отношении В.Н. Земцов, говоря об опасности занятий историографией, безусловно, прав.
О повышении значимости и актуальности историографических исследований для современной научной практики можно говорить хотя бы в связи с их резким количественным ростом за прошедшее двадцатилетие. После памятного «круглого стола» 1992 г. в редакции журнала «Родина», на котором обсуждались наиболее дискуссионные вопросы изучения истории наполеоновского нашествия на Россию, историографическое направление, к этому времени уже четко обозначившееся, стало одним из основных в научных исследованиях.
Дискуссия была подготовлена полемикой вокруг критических статей Н.А. Троицкого о работах ведущих советских исследователей Отечественной войны 1812 г. Он же одним из первых провел «фронтальное» исследование отечественной историографии темы от ее зарождения до «перестроечных времен»86. Именно тогда саратовский историк остро поставил вопрос о необходимости дальнейшей борьбы за преодоление субъективистских взглядов, «которые… от многократного повторения приобретали силу научной традиции». Причем критический анализ господствовавшей концепции ученый сопровождал утверждением альтернативных точек зрения, отражавших общую тенденцию к пересмотру официальной концепции войны 1812 г.
Однако методологически научная деятельность Н.А. Троицкого оставалась ориентированной на марксистско-ленинские подходы к освещению темы, которые, по его мнению, требовали лишь новой интерпретации. По этой причине сам Н.А. Троицкий подвергался критике, в некоторых случаях достаточно острой, со стороны наиболее радикально настроенных ученых «новой волны», выступавших не только за устранение очевидных «ляпов» советской историографии, но и за пересмотр всего методологического фундамента изучения наполеоновского нашествия на Россию87.
Вслед за Н.А. Троицким комплексное изучение историографии См.: Троицкий Н.А. Современная историография Отечественной войны 1812 г.: новое в научной полемике и этике // Проблемы изучения истории Отечественной войны 1812 г.
Саратов, 2002. С. 87.
См.: Троицкий Н.А. Отечественная война 1812 года: история темы. Саратов, 1991.
См.: Безотосный В.М. [Рец. на:] Троицкий Н.А. Отечественная война 1812 года: история темы. Изд-во Саратовского ун-та, 1991 // Отечественная история. 1993. № 2; Попов А.И. [Рец.
на:] Троицкий Н.А. 1812 Великий год России. М.: Изд-во Омега, 2007 // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Самара, 2008. Т. 10. № 4. С. 1300–1306.
Отечественная война 1812 г.
Отечественной войны 1812 г. за весь период ее существования в какойто степени было продолжено и автором настоящего выступления.
Результатом научных поисков, сопряженных с активным изучением комплекса архивных документов, стала монография88, которая вышла небольшим тиражом в 100 экземпляров и разошлась преимущественно среди специалистов, но не вызвала каких-либо официальных откликов в научном сообществе. Защищенная же через год по этой проблеме докторская диссертация89 получила положительную оценку в ВАК Министерства образования РФ, хотя особо указывалось на мнение рецензентов о том, что «еще рано говорить о разрушении устоявшейся исторической концепции нашествия Наполеона на Россию…»90.
В обобщенном виде основные вехи развития отечественной и зарубежной историографии осветили В.П. Тотфалушин и В.Н. Земцов в соответствующей статье энциклопедии об Отечественной войне 1812 г.91 Среди новейших работ, посвященных особенностям развития историографии темы в целом, ее достижениям и недостаткам на современном этапе, можно отметить кандидатскую диссертацию Л.И. Агронова, а также статьи В.М. Безотосного и В.Н. Земцова92. В начале XXI в.
продолжалась активная историографическая разработка отдельных аспектов истории Отечественной войны 1812 г. в кандидатских диссертациях Т.А. Лепешинской, М.Г. Лобачковой, А.И. Прохоровской, ряде статей А.В. Горбунова, Л.Л. Ивченко и других93.
Шеин И.А. Война 1812 года в отечественной историографии. М., 2002.
См.: Шеин И.А. Отечественная война 1812 года: историография проблемы. Автореф. дис.
… д-ра ист. наук. М., 2003.
Шеин И.А. «Отечественная война 1812 г.: историография проблемы» // Бюллетень ВАК.
2004. № 2. С. 13.
См.: Тотфалушин В.П., Земцов В.Н. Историография // Отечественная война: Энциклопедия. М., 2004.
Агронов Л.И. Постсоветская российская историография Отечественной войны 1812 года.
Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2007; Безотосный В.М. О путях развития современной историографии Отечественной войны 1812 г. // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография. Вып. 4. М., 2005. Вып. 147. С. 294–311; Земцов В.Н. Историография Отечественной войны 1812 года: 200 лет поиска истины // IMAGINES MUNDI: альманах исследований всеобщей истории XI–XX вв. Екатеринбург, 2010. Вып. 4. № 7.
Лепешинская Т.А. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» как исторический источник в изображении событий Отечественной войны 1812 г. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2006;
Лобачкова М.Г. Образ Наполеона Бонапарта в русской публицистике. 1799–1815 гг. Автореф.
дис. … канд. ист. наук. Самара, 2007; Прохоровская А.И. Военно-политическая деятельность Александра I в период борьбы с наполеоновской Францией (1804–1816 гг.): историографическое исследование. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2009; Горбунов А.В. Бородинское сражение в новейшей отечественной историографии (1989–1999 годы) // Воинский подвиг защитников Отечества: Традиции, преемственность, новации. Ч. 2. Вологда, 2000; Ивченко Л.Л.
Историография Бородинского сражения // Там же; Она же. Актуальные вопросы изучения Бородинского сражения в современной отечественной историографии // Бородино и наполеоновские войны. Битвы. Поля сражений. Мемориалы. М., 2003.
Материалы «круглого стола»
Последнее десятилетие отмечено появлением капитальных научных работ, выполненных на стыке смежных исторических дисциплин. В частности, речь идет о кандидатской диссертации и изданной на ее основе монографии Л.Л. Ивченко94. Ее исследование, построенное на критическом историографическом и источниковедческом анализе литературы и источников, свидетельствует о том, что в бородинской проблематике остается еще немало спорных и запутанных вопросов.
Л.Л. Ивченко предприняла попытку существенно скорректировать общепринятые представления о планах Кутузова, подготовке русской армии к битве и хронологии сражения. По основательности проведенного научного анализа эту работу сегодня можно признать одной из наиболее значимых в отечественной историографии.
Практически новое направление в изучении историографии Отечественной войны 1812 г. открыл В.Н. Земцов своими аналитическими работами о зарубежной исторической науке95. Они наглядно показывают важность и необходимость координации усилий российских и зарубежных ученых в изучении Наполеоновских войн.
Если говорить достижениях современной российской историографии войны 1812 г., то главное из них состоит не только в том, что в 90-х гг. были опровергнуты многочисленные мифы «эпохи 12-го года», но и в том, что у большинства серьезных исследователей темы сформировалось понимание недопустимости всеобъемлющего нигилистическипренебрежительного отношения к трудам предшествующих поколений отечественных, а также зарубежных ученых.
В целом историографическое направление является наиболее перспективным в современных научных исследованиях. Об этом, например, свидетельствует недостаточная историографическая разработанность темы полководческой деятельности М.И. Кутузова, которая сегодня вызывает ожесточенные споры среди историков. Малоизученной остается историография зарубежных походов русской армии 1813–1814 гг. Огромный пласт литературы посвящен наполеоновской проблематике, на базе которой можно напасать не одну историографическую работу. Перечень актуальных и перспективных для изучения тем можно было бы продолжить. Несомненно одно: без историографических исследований нельзя не только оценить уровень достигнутого Ивченко Л.Л. Бородинское сражение: историография, источники, проблемы исторической реконструкции: дис. … канд. ист. наук. М.: РГГУ, 2005; Она же. Бородинское сражение: история русской версии событий. М., 2009.
Список работ В.Н. Земцова см. выше в сноске 28.
Отечественная война 1812 г.
научного знания, но и определить перспективы его дальнейшего развития. Даже поэтому «польза» от работы историографа явно перевешивает ее «неполезность»!
Чудинов А.В. (председатель). Если суммировать прозвучавшие здесь мнения, то, как я понял, большинство участников «круглого стола» связывает перспективы дальнейшего развития российской историографии войны 1812 г. с движением по следующим направлениям: а) введение в оборот новых источников, прежде всего западноевропейского и, в частности, французского происхождения; б) диверсификация применяемых методов исследования за счет привлечения научного инструментария исторической антропологии, микроистории, археологии и междисциплинарных подходов; в) расширение тематики исследований с выходом за пределы сугубо военно-исторических штудий и включение в нее политических, социальных, культурных и иных аспектов эпохи; г) развитие международного сотрудничества в разработке соответствующей тематики. Позволю себе высказать некоторые соображения по каждому из этих пунктов.
а) Еще совсем недавно, каких-то два десятилетия назад, документы из зарубежных архивов были практически недоступны для наших ученых, из-за чего им приходилось в своих разысканиях рассчитывать только на отечественные фонды. Сейчас ситуация в корне изменилась. Если большинство российских архивов продолжает работать по старинке: дела надо заказывать за несколько дней, отдельные фонды нередко закрываются под достаточно произвольными предлогами, копирование документов разрешается в ограниченном количестве (ежели вообще разрешается) и за высокую плату, – то на Западе, и прежде всего во Франции, за последние годы произошла настоящая революция в архивном деле. Теперь, придя, скажем, в Национальный архив Франции, в Военный архив в Венсенне или Архив МИДа в Курнёве, вы имеете право совершенно бесплатно снять на цифровой фотоаппарат столько документов, сколько успеете за рабочий день. При определенной сноровке в день можно сделать до 1,5 тысячи снимков.
А поскольку доставка заказанных дел производится примерно в течение часа, такую фотосъемку можно осуществлять практически непрерывно. Иными словами, материалы зарубежных архивов сейчас стали, благодаря современным технологиям, доступны для наших исследователей в гораздо большем объеме, чем архивов отечественных.
Поэтому я призываю коллег не ждать от наших зарубежных партнеров «милостей» в виде новых публикаций, а самим стать кузнецами своего счастья. Не исключаю, что кто-то скажет: «Ну да, за морем телушка поМатериалы «круглого стола»
лушка…», но только как туда добраться? Поверьте, существующая система грантов российских научных фондов и французских институтов (посольства, Франко-российского центра общественных и гуманитарных наук, Дома наук о человеке и др.) предоставляет теперь достаточно возможностей для таких поездок.
б) Расширение диапазона применяемых методов исследования позволяет порой историку проникнуть в такие сферы минувшего, которые ранее выглядели совершенно непроницаемыми. Здесь уже говорилось о том, что хорошо бы узнать, как воспринимали Отечественную войну 1812 г. рядовые солдаты и крестьяне – те, в основном неграмотные, социальные слои, что не оставили после себя массовых письменных источников. Заинтересовавшись этим вопросом и имея перед собой многочисленные примеры изучения менталитета «безмолвствующего большинства» эпохи Средневековья, предпринятые российскими и французскими специалистами по исторической антропологии, я обратился к русскому фольклору о войне 1812 г. Результаты этого исследования не позволяют мне разделить выраженный здесь А.В. Гордоном скептицизм относительно некоторых аспектов освещения Отечественной войны дореволюционной и советской историографией. Нравится нам это или нет, но фольклорная традиция изображала французов в полном соответствии с архетипом неприятеля, существовавшим в народном сознании еще с глубокой древности, а именно – как врага православия («веры христианской») и разорителя Русской земли96. Если судить о восприятии той войны народом не по утверждениям представителей образованной элиты, пусть даже таких выдающихся, как Герцен и Лермонтов, а дать слово самому народу, то мы увидим, что едва ли не в каждом фольклорном произведении о 1812 г. звучит мотив религиозного противостояния, вроде:
Не бывать тебе, злодею, В нашей каменной Москве.
Не снимать тебе, злодею, Золоты главы с крестов97 И т.п.
И еще задолго до того, как могла появиться «тенденция к калькированию русско-французской войны по образу тотального противоПодробнее см.: Tchoudinov A. L’image du ranais dans le folklore russe // L’Image de l’tranger. P., 2010. Полностью результаты данного исследования будут опубликованы порусски в ФЕ 2012.
Исторические песни XIX в. Л., 1973. С. 63.
Отечественная война 1812 г.
стояния с фашизмом», народные исполнители в XIX в. пели: «Разорена путь-дорожка / От Можая до Москвы, / Разорил-те путь-дорожку / Неприятель вор-французик»98.
Новые методы порою подтверждают старые выводы.
в) Полностью разделяя все то, что здесь говорилось о необходимости расширения поля исследований за счет политических, социальных, культурных и других аспектов, не могу не выразить беспокойства тем, что почти никто не упоминал экономическую историю. Невозможно говорить об истоках войны 1812 г., не касаясь темы влияния Континентальной блокады на Россию. На Западе история Блокады, или, как ее еще называют, Континентальной системы, активно разрабатывалась во второй половине ХХ в. как на общеевропейском, так и на локальном уровне99. В настоящее время 200-летие Континентальной блокады вызвало новый всплеск научного интереса к ней: только в этом году в Амстердаме пройдут две посвященные ей международные конференции. У нас же до сих пор наиболее солидными работами по данной теме остаются вышедшая уже почти век назад монография Е.В. Тарле и выполненное еще в 30-х гг. исследование М.Ф. Злотникова, первый том которого увидел свет лишь в 1966 г.100, а второй до сих пор лежит в архиве.
Иными словами, в изучении экономических предпосылок Отечественной войны 1812 г. наша историография (речь не идет об исторической публицистике), к сожалению, пребывает в неподвижности уже многие десятки лет.
г) Что же касается международного сотрудничества, то здесь я просто хотел бы анонсировать международную конференцию «Отечественная война 1812 г. в контексте мировой истории» с участием ведущих зарубежных специалистов, которую ИВИ планирует провести в октябре 2012 г.
Надеюсь, сегодняшняя встреча за «круглым столом» не станет последней, и мы еще с вами соберемся, чтобы обсудить совместные усилия по изучению этой, столь дорогой для нас и столь интересной тематики.
– – –
См., например: Crouzet F. L’conomie britannique et le blocus continental, 1806–1813. P.,
1958. 2 vols.; Dunan M. L’Italie et le systme continental // Revue de l’Institut Napolon. 1965. T.
96; Ellis G. Napoleon’s Continental Blockade: The Case of Alsace. Oxford, 1981; Marzagalli S. «Les boulevards de la fraude». Le ngoce maritime et le Blocus continental, 1806–1813. Bordeaux, Hambourg, Livourne. illeneuve d’Ascq, 1999.
Суюнчев КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКИЕ И МОНГОЛЬСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ Карачаево-Черкесское отделение Ст...» таможенной истории Коми края Предки коми-зырян в письменных источниках были известны под именем пермь. Ареал их обитания это прежде всего бассейн Вычегды с ее притоками Вым...» СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ И.И. БОДУНОВА (Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск) С позиций актуальной постмодернистской парадигмы ра...» то есть траекторию развития и в этом ему помогают совершенно разные, противоречивые, противоположные идеи, ценности, идеалы и...» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЕПАРХИАЛЬНЫХ БРАТСТВАХ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА THE CHRITY ACTIVITY OFF...»
«Бутин Алексей Андреевич Хронотоп принципата I – начала II в. (по произведениям Корнелия Тацита) 24.00.01 – теория и история культуры Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук Научный руководитель: Перфилова Т.Б. доктор исторических наук, профессор Ярославль Оглавление...»
«И с то рИ я п сИхол о г ИИ Учебно-методический комплекс для студентов специальности «Психология» 3-е издание, исправленное и дополненное Минск Изд-во МИУ УДК 159.9(091) ББК 88:63.3 И 89 Автор-составитель Р.В. Петрунникова, ст. преподаватель кафедры юридической психологии МИУ Рецензенты: И.И. Заяц, доц. кафедры педаг...»
«От прогноза до результата (история рождения компании в разгар кризиса) Снимите шляпу: в самый пик кризиса, в начале февраля 2015 года, появилась новая компания. Воронежских смельчаков не испугало трудное время и высокие кредитные ставки. Румяная выпечка, домашние пирожные и прочие вкусняшки «от ба...» ЕКАТЕРИНБУРГЕ В 1905 Г. В сообщении на основе дореволюционной периодики рассматривается история посещения Екатеринбурга святым праведным И...» Автор-составитель: д.фил., проф. Л.И. Маршева Программа обсу...» самостоятельного тематического блока курса истории объясняется наглядно проявленным в ней истори...»
Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам , мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.
Публикую конспект примечательной лекции об историографии войны 1812 года, прочитанной в стенах нашего факультета Николаем Ивановичем Цимбаевым. Следует иметь ввиду, во-первых, то, что Николай Иванович великолепный специалист и интересный человек, но он обладает весьма желчным характером и часто бывает резок в своих суждениях. Во-вторых, конспектируя за ним, я, конечно, что-то не уловил, что-то, может быть, пришло в этот текст от меня. Впрочем, я старался донести мысли лектора в их первозданном виде и без особых изъятий. Последнее тоже было непросто, потому что Николай Иванович не прочь не надолго отвлечься и обсудить текущие события в нашей науке. Эти отступления я редко фиксировал.
После лекции я постарался привести текст в удобочитаемый вид, но, естественно, он не утратил своего несколько машинописного характера, за что я прошу прощения у читателя.
Занятие 11.10.12. Историография Отечественной войны 1812 года
Есть несколько иностранных работ, которые стоит упомянуть. Теодор Шиман, я о нем говорил на прошлых занятиях, он создал первое за границей научное подразделение, посвященное русской истории. У него есть биография Александра I. Есть Доменик Ливен — английский исследователь. Представитель известной в нашей стране фамилии. Когда-то он был стажером нашей кафедры. Прекрасный человек. Но он не является специалистом по теме войны 1812 года.
Итак, война 1812 года - это классическая тема. То есть, уже несколько поколений, от 1830-х годов, историки обращаются к этой теме. По-разному. Но почти всегда с патриотических позиций. Радовались победе. Прославляли русское оружие. Методология была разная, ангажированность разная, но в целом русло такое, достаточно понятное. Событий таких немного, льющих бальзам на русскую душу.
Проблема историографии поэтому довольно проста. Прослеживается единство, которое восходит к публицистике. Это часто так: сначала публицистика обращается к проблеме, а потом уже историография. С.Н. Глинка писал записки, Ф.Н. Глинка тоже писал. Потом стали появляться первые воспоминания. Уже в 1820-е годы. Там формулируются первые проблемы.
Дмитрий Иванович Ахшарумов
Перва я серьезная работа появилась сразу по окончании войны. В 1813 году появилось анонимное историческое описание. Очень краткое описание, чисто фактологическое, речь только о военных действиях. Автором был штабной офицер Д.И. Ахшарумов. Он родился в 1785 году. Он был молод. Был адъютантом Коновницына. У него были определенные литературные навыки, и вот он работал. Это было поручение военного командования. У него был досуг, была возможность смотреть французскую публицистику.
В 1819 году появилось первое серьезное описание войны 1812 года «на основании известий штаба русской армии». Это все военная история и только. Писали ее военные. У них не было серьезных задач, кроме военных. Но главные сюжеты они наметили.
Эти сюжеты: внезапность нападения Наполеона, вынужденность отступления русской армии, (пока живы были ведущие деятели войны, нельзя было обсуждать всякие разногласия), описание Бородинского сражения. Главное действующее лицо у всех одно — русская армия.
Дмитрий Петрович Бутурлин
Они ровесники и работали с Ахшарумовым одновременно. Он сражался в 1812 году. В декабре этого года стал кавалергардом. В 1817 году — флигель-адъютант Александра I. Потом он стал генералом. Он вам должен быть известен как глава «бутурлинского» комитета во время революции 1848 года. Его поставили во главе комитета, потому что, с одной стороны, он был старый служака, а с другой стороны, он имел литературный вкус. А тогда он был близок к критически настроенным офицерам. Они критиковали Аракчеева, иногда даже и самого царя.
Бутурлин написал «Историю нашествия императора Наполеона на Россию...». Это произведение посвящено Александру I. Это перевод с французского. То есть, книга была написана на французском изначально. Книга Бутурлина была рассчитана не только на русского читателя. Это официозная история. Не официальная, потому что прямого поручения не было, но официозная. Он использовал русские и французские источники. Перевод на русский г.-м. Хапова.
Книга содержит официальную, уже устоявшуюся тогда, точку зрения. Это опять-таки военная история. Примечательно, что «партизанами» там называются регулярные военные отряды. Хотя Бутурлин не профессиональный историк, он провел очень добротную работу. Есть и концепция. Книга посвящена императору. Должное отдается всем генералам, всегда отмечается, кто был раненым и убитым в конкретном деле. Но Кутузов упоминается очень мало. Изложение вышло очень дробное, получились как бы отдельные истории про сражения. Так вот концепция — руководящая и ведущая роль Александра I . Доказывается, что у него был план изгнания врагов. Это уже натяжка. Безусловно, Александр принимал важнейшие решения, в том числе по переговорам, вернее, по их отсутствию. Но вот плана у него не было.
Еще ряд книг
Есть еще одна анонимная книжка «Двадцатипятилетие Европы...» в 1831 году вышла. Это подробное и взвешенное изложение о событиях в Европе в царствование Александра I. Это просто так. Другая книга с ничтожным значением - это книга Николая Полевого. Он написал «Историю Наполеона». Он тогда уже был консервативным и патриотичным. Это компилятивная работа и апологетичная.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский
Итак, писали военные военную историю про военные действия. Подчеркивалась особая роль Александра I, особенно у Бутурлина. Потом Александр I ушел из жизни. Историки посвящают работы новому государю.
Михайловский-Данилевский пишет «Описание Отечественной войны...» Это первый серьезный исследователь войны. Один из основоположников военной истории в нашей стране. Его имя, конечно, надо знать. Он был из малоросских дворян. Довольно средний по знатности род. Он был в ополчении, а потом работал в походной типографии. Он занимался пропагандой. Видимо, имел тягу к этому. Понимаете, тогда выходить из строя, служить при штабе... для этого нужна была определенная смелость. Считалось, что офицер должен служить в строю. А он стал военным журналистом или что-то типа того. Он пишет описание войны 1813 года и описание кампании 1814 года. До этого он издал еще свои записки. Такой плодовитый автор. Дослужился до генерала, но карьеру делал как военный историк и литератор. Он первый профессиональный военный историк в нашей стране. Это большая заслуга.
В 1839 году он издал описание войны 1812 года. Оно создавалось к 25-летнему юбилею. Книга посвящена Николаю I. Тогда еще почти все участники войны были живы, поэтому у них возникал вопрос, почему же он посвятил книгу именно ему. Николаю тогда, в 1812 году, было 16 лет. Он там пишет в посвящении «... когда запад Европы...». А не Европа. Отметим это. Он считал Россию частью Европы. Далее Михайловский-Данилевский пишет, что Николай по малолетству не мог участвовать в войне. А в 1837 году царь повелел создать описание войны «в духе правды и беспристрастия». И вот «жребий пал» на него, на автора.
Этот труд очень серьезный и хороший. Здесь есть карты, причем, их много. Тут уже события описаны скорее со стратегической точки зрения. Это монографический труд, то есть автор излагает свою точку зрения. Да, по указанию Николая, но тем не менее. Он пишет не только военную историю, но и от части дипломатическую историю, он говорит о причинах войны, о предыстории. Михайловский-Данилевский лишен всякой апологетики по отношении к Наполеону. Он приписывает ему замыслы о «всемирном преобладании». Михайловский-Данилевский использовал донесения, а не только штабные реляции. Насколько я знаю, никогда не было никаких к нему претензий по части военной истории.
Концепция патриотическая и монархическая. И говорить нечего. У автора был методологический принцип. Он писал и не раз, что мы должны или безусловно хвалить или молчать. О многом ли он умолчал? Трудно судить. Надо сравнивать постранично. Это большой труд и довольно бессмысленный. Михайловский-Данилевский явно недооценивал Кутузова. Михаил Илларионович очень спорный персонаж, конечно. Но только не в 1812 году. Причем нельзя сказать, что Кутузова при Николая I замалчивали. Ничего подобного. Трудно сказать, почему к нему так относится автор. Второй момент в том, что он недооценивает в целом российский генералитет.
Главная движущая сила, помимо собственно армии, у Михайловского-Данилевского российское дворянство. Вот тут он новатор. Он обратил внимание на социальные явления. У него в книге вы найдете еще и впечатления, которые оказали все эти события на публику. Описываются партизанские действия, опять таки, имеются ввиду регулярные отряды. Но говорится и о крестьянах. Итог сочинения — великая победа России. 1812 год для них всех, для Бутурлина, для Михайловского-Данилевского, интересен не сам по себе. Это поворотная точка всей эпохи Наполеоновских войн. Не случайно он сразу принимается за 1813 и 1814 год. То есть, Россия в одиночку сокрушила Наполеона.
Михайловский-Данилевский — одна из вершин нашей историографии. Описание полное и подробное.
Модест Иванович Богданович
В 1862 году — пришелся первый более или менее круглый юбилей. Он прошел тихо и незаметно. Тогда было 1000-летие России и события тогда были бурные. Публике было не до 1812 года. Но на этом фоне появились работы М.И. Богдановича. Он как раз профессиональный военный историк. Он много лет был профессором военной истории в НАГШ.
Он родился в 1805 году. Он не участвовал в войне. Еще при Николае он издавал «Военный энциклопедический лексикон». Это сборник статей, фактически. Научная ценность, может, быть, у «...лексикона» не велика. Богданович там был и редактором, и автором большинства статей. Он был потрясающе работоспособен. Он написал книжку «История военного искусства и замечательнейших походов...». Все это было популярно. Потом было поражение в Крымской войне. Одним из средств преодоления горечи поражений всегда были воспоминания о хорошем. Поэтому Богданович пишет к юбилею в трех томах «Историю Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам». Это не только реляции и донесения, это и мемуары, это и газеты, журналы, публицистика, потому что он пишет и об обществе. Для него важны и гражданские документы, особенно связанные с Москвой. Автор четко идет по стопам Михайловского-Данилевского. Он пишет историю войны 1813 года «за независимость Германии». Это было правдой. Для немцев и сейчас это некая освободительная война. Только они забывают, что их освобождали русские и шведы, а потом австрийцы. Потом автор написал о кампании 1814 года. То есть, вот эта целостность событий, о которой я уже говорил, сохранялась. История 1812 года сделала ему имя.
Концепция у него тоже есть. Он писал уже в новую эпоху, в канун отмены крепостного права. Слава России померкла, а умные люди ощущали, что народ это не просто объект попечения. Богданович был, конечно, умным. Он много внимания, может, даже преувеличенно много, уделяет крестьянским и партизанским действиям. И это новация. Народный элемент как один из элементов победы России. Хотя никто специально не умалчивал об этом. Рисовались карикатуры известные. Все это было.
Другой важный момент. Богданович выступил с апологетикой Кутузова. Это часто бывает в историографии. Если что-то сначала долго умалчивается, то потом, наоборот, это становится на первый план. У него Кутузов — главный герой. Его роль выходит на первый план за счет Александра I, кстати.
Он в сущности, закрыл тему описания военных событий. Он сделал это все очень добросовестно. Много работал в архиве. Он не скрывает, что он не касается некоторых вопросов внутренней жизни, дипломатии. Просто всего не объять даже такому работоспособному человеку.
Застой
Во 2/2 XIX века было тяжело изучать новейшую историю России. Это эпоха позитивизма, практических знаний, восхищения прошлым. Наконец, на это время пришлось ослабление пиетета перед самодержавием. А 1812 год давал слишком много материала для возвеличивания этой самой самодержавной власти. После Богдановича происходит полный застой.
Было серьезное исключение — работа Сергея Михайловича Соловьева «Император Александр I...». Он в конце жизни написал ее. На 100-летие рождения императора. Монархическая работа. Она была посвящена в целом дипломатической истории царствования. Он много всего там говорит про Наполеоновские войны. Концепция была простая. Соловьев был склонен к персонификации. У него там действует гений войны Наполеон и гений мира Александр. Гений мира побеждает. Он там уже морализаторствует. Движущая сила победы — армия и русский народ, а также сам государь, его воля и его гений.
Важно, что у Соловьева события русской истории вписаны в общемировой контекст. Но книжка Соловьева — это исключение. А правила никакого тогда не было. Все усложнилось, потому что в 1860-х годах появилась «Война и мир».
Граф Лев Николаевич Толстой
Он великий романист, может и один из величайших. Но этого Льву Николаевичу было мало. Он создавал новую философию истории и новое прочтение исторического процесса. Ничего путевого из этого не получилось. Конец «Войны и мира» это что-то вообще запредельно невнятное. Но общая концепция была такова. Над всеми земными деяниями царит предопределение, некий фатум. Причем не божественное предопределение, как в Средние века считали, а просто фатум. Люди, особенно великие, глубоко заблуждаются, считая, что они двигают историю. Может быть, народ является двигателем. Он должен угадать своим чутьем что-то вот такое.
Как мыслитель он был зауряден. Он оспаривал теорию героев и толпы, которая тогда была очень популярна. Карлайл это все развивал в свое время. Народники у него кое-что почерпнули. Личность, познавшая волю народа, может творить чудеса. А граф Толстой старался дегероизировать всех героев. Низводил их до карикатур. Наполеон у него чисто карикатурен. Кутузов велик тем, что понимает неважность личностного начала.
Художник, правда, противоречит мыслителю в графе Толстом. Он создает свою концепцию. Некий фатум, мировая воля предопределяет все события. Русский народ позитивен. Граф Лев Толстой идет за Богдановичем, но идет дальше. Он дает формулу «дубина народной войны». Потом в советское время это все подхватят. Эта идея перечеркивает русскую армию. А народ — главный победитель. Победа ровным счетом ничего не изменила. Кампания 1812 года — это нечто внешнее по отношению к крестьянской и дворянской жизни. Творчество графа Толстого активно изучают. Подметили у него такую особенность. Сражаются у него плохие, а хорошие оружия в руки не берут. Гибнет в бою князь Андрей, довольно неоднозначный персонаж романа, а Пьер не сражается, Платон Каратаев не сражается. Петя Ростов гибнет, но он даже не вынул саблю. Женщины в романе не идут в кавалерист-девицы. Может, это что-то бессознательное у графа Толстого. Николенька Ростов радуется, когда получает отпуск. И все офицеры ему завидуют. А с оружием в руках сражаются плохие. Князь Куракин, например. Все почти военные у графа Толстого плохие. Один капитан Тушин хороший, потому что артиллерийский офицер, как и сам граф.
Жизнью своей граф Толстой опровергнет свои же идеи. Он сражался в Севастополе.
«Отечественная война и русское общество»
Дальше война описывается в основном в общих работах, например, у Шильдера. Был историк Дубровин, который изучал русское общество в 1812 году. Он сам был генералом. Он использует дворянскую переписку. Отличная работа. У графа Толстого совершенно не патриотическое общество, а Дубровин спорит с этим. Дубровин пишет о бытовом патриотизме.
К 100-летнему юбилею ситуация меняется. Тогда появилось замечательное издание «Отечественная война и русское общество». Богатое издание. С.П. Мельгунов участвовал. Это такой неонароднический историк. «Голос минувшего» издавал. Он был убежденный противник большевиков. Составлял сборники о красном терроре в те времена, когда об этом на Западе никто и слышать не желал. Сложная фигура. В.И. Пичета, считавшийся основоположником белорусской исторической науки, тоже участвовал. Он историк-славист. Он бы, наверное, очень удивился, если бы узнал, что был зачислен в белорусы. Он создавал кафедру славян у нас на факультете. Это во времена Сталина педалировалась дружба славян. Они все — Пичета, Мельгунов и проч. - были лево-либеральных и лево-радикальных взглядов. Историческая комиссия учебного отдела Общества Распространений Технических Знаний это все издала. Это богатое общество, буржуазия его спонсировала.
Общество в этой работе, на самом деле, было не при чем. Концепции никакой. Просто отдельные статьи в хронологическом порядке. Биографии, события, пожар Москвы и проч. Все в духе русско-французского союза. Авторы были разные, Готье туда писал, Тарле, Туган-Барановский, В.Д. Бонч-Бруевич, Семевский и многие другие, в том числе и случайные люди.
Михаил Николаевич Покровский
После 1917 года историографическая ситуация не меняется принципиально. Граф Толстой формирует общее представление о войне. В 1920-е годы господствует школа Покровского. Его взгляды сложились еще до революции. «Торговый капитал в шапке Мономаха», реакционность и проч. У него было сильное русофобское начало. Не только власть критиковал. Но и русский народ и все его начинания. Для него 1812 год — реакционное явление. Наполеон был прогрессом со своим кодексом. А самодержавие борется с ним, побеждает, и что самое неприятное, отбрасывает назад развитие. Он там многое отрицает. Не было никакого народного подъема, например. Ошибки Наполеона всё предопределили, а под конец кампании еще и дурная погода.
Действительно справедливо, что Наполеон — олицетворение прогресса, что буржуазное развитие было заторможено. Но была и другая сторона, о которой Покровский вспоминать не хочет. Народный характер войны. Народ отстаивал свою независимость. А Покровский, видимо, не считал, что у России должно быть какое-то национальное достоинство.
Евгений Викторович Тарле
С точки зрения исследовательской в 1920-е годы ничего не делали. Потом школу Покровского низвергли, стали преподавать историю, патриотизм реабилитировали. Появляются работы публицистического плана. А потом появились и серьезные работы. Издаются публикации документов. В 30-е годы лучшее, что было это Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». Это 1943 год, кажется.
Там прямо сопоставляется нашествие с современными событиями. Основная идея - к то к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Следует, во многом, за Богдановичем.
Любомир Григорьевич Бескровный
После войны снова наступает перерыв. Мыслилось, что будут какие-то труды по сопоставлению двух отечественных войн, но ничего не произошло подобного. Вернее, это Тарле так мыслил. И.И. Ростунов написал биографию Багратиона. Она вполне профессиональная. Здесь предельная героизация всего, что можно.
Приближается юбилей. Пишутся к нему всякие книги. Книжка про народное ополчение пишется. Публикуют источники. Что-то выходит к 150-летнему юбилею. Это я к тому. Что тогда что-то делалось, а не так, как сейчас: открыли один музей и радуются, что потомок Жерома Бонапарта его одобрил.
Это время двух исследователей. Бескровный первый. Он, наверное, самый крупный военный историк в России/СССР. Богданович, Михайловский-Данилевский и он. Ну и Жилин — четвертый. Написано все с марксистких позиций, о чем заявлено в предисловии. Тут есть обстоятельный раздел историографии. Важно то, что у него воссоздано состояние русской армии на 1812 год. Это самое главное в Бескровном. Он продолжал лучшие традиции XIX века. Он сопоставляет, показывает, что представляет из себя французская армия. Это компорационный принцип. Есть раздел о планах сторон. Главный герой — армия. Это в духе военной истории XIX века. Решающая роль у Кутузова и генералитета, военных профессионалов. У него нет спекуляций на тему русской патриотической партии и немецкой партии, чем любили заниматься в канун 1941 года, во время войны и после войны. В след за Тарле, Бескровный показывает, что Кутузов не строил «золотой мост» французам. Это идея эпохи 1912 года, союза с Францией.
Это очень хорошая работа. Чего тут не хватает, так это понимания 1812 года как части эпохи Наполеоновских войн.
Виталий Александрович Жилин
Современник Бескровного. Он очень много написал работ. У него есть биография Кутузова, общая работа по войне 1812 года. Тут больше о ходе военных действий. Он не мог конкурировать с Бескровным в описании армии. Он администратор был, создавал Институт Военной истории. Это отнимало много времени. Но исследование все равно было солидное.
Есть и другая работа. «Гибель Наполеоновской армии в России». Она более монографическая. Там даже есть глава о 1813 годе. Жилин на уровне там пишет. У него такая же концепция. Главный победитель русская армия и ее военное руководство. Они с Бескровным прямо не спорят с графом Толстым, но народ у них остается второстепенным моментом, если не третьестепенным. Хотя публицистика педалировала это всё в те же самые годы.
Оба они негативно оценивают и, можно сказать, недооценивают Александра I. Жилин ставил вопрос об исходе Бородинского сражения. Как военный историк он не оспаривает всей героики, но говорит о том, что сражение не решило исход кампании. Более того, взятое одномерно, оно завершилось в пользу французов. Он пишет много о значении Тарутинского маневра. На это мало кто обращал внимание до Жилина. Он говорит, что Кутузов, конечно, бывал не на высоте, например, в 1805 году, но в нужный момент он переиграл Наполеона. Маневр был блестящим замыслом и всецело осуществленным. После этого Наполеон был обречен. После Жилина уже всерьез говорить о победе при Бородино не стоит.
Есть одна особенность у них двоих. Они не создали, к сожалению, никакой школы. Ни Бескровный, ни Жилин. Отечественная война осталась просто примером героизма. В 1988 году появляются работы Троицкого, например, «1812 — великий год России». Это перестроечное явление. Попытка возвеличивания русского народа и дегероизации русской армии. Мягко говоря, не добрая книжка.
Постсоветская историография
В советской литературе почти не изучаются предшествующие кампании и кампании 1813-1814 гг. Был один сборник статей по 1813 году. Статьи слабенькие. Статья Дружинина там слабовата. О постсоветском времени я уже заикался, говоря о нынешнем юбилее. Ничего не дал нам юбилейный год даже в пропагандистском плане, даже в просветительском плане. Тема мельчает. Есть масса энтузиастов, которые занимаются отдельными сюжетами. Биографиями, например. Пишут про саратовскую губернию, про понимание силы как инструмента политики у Наполеона и т. п. Серьезных работ не появляется. Безотосный, выпускник нашей кафедры, сейчас один серьезный автор. Он писал у нас работу о разведке, о Чернышеве. Потом он об этом только и пишет. В целостном виде этот сюжет развивает. Но это малая часть темы. Многие выступают с попытками дегероизации. Есть Мельникова. Она пишет о роли церкви. Но она многое «забывает» про поведение церкви, которое отнюдь не всегда было патриотичным.
Дмитрий Целорунго
Есть одна работа, которая заслуживает серьезного внимания. Это Целорунго «Офицеры русской армии — участники Бородинского сражения». Это блестящее исследование. Конкретное. Много лет Целорунго, выпускник нашей кафедры, молдованин, работал в РГВИА с формулярными списками. Он составил перечень дивизий и полков, которые участвовали в сражении. Всего он насчитал чуть меньше 7 000 офицеров. Он обработал 4 000 с лишним списков. Просто не все дошли. И он не касался генералитета, только полковники и ниже. Вообще я против этих всех количественных методов, клиометрики и проч., но в данном случае, статистика оказалось полезной. Там он проследил всё. И социальный состав, и образовательный уровень. Все очень тщательно. И опыт офицеров, и возраст, и семейное состояние.
Пересказывать бессмысленно, скажу кратко. Офицеры были молодые и очень молодые. Самым молодым знаете сколько было? 14 лет. Это, конечно, единичные случаи. 21-25 лет, в основном. Если, кто старше, то это тоже единичные случаи. Огромное большинство - дворяне. Как правило, бедные и очень бедные. Это люди, которые не имели боевого опыта. Огромное большинство не имело его. Больше, чем 2/3 не имело. Даже на момент сражения у них не было опыта. Он сравнивает русских офицеров и французов соответствующего звания. Наши офицеры на 2-3, а в старших чинах — на 5-7 лет, младше. Это не закаленные ветераны. У них не было семьи очень часто. И что поразительно: находились несколько офицеров, среди егерей, почему-то, которые не умели читать и писать. Огромное число умело только считать, читать и писать.
Целорунго хотел и по унтерам сделать такое же исследование. Но он сейчас отошел от истории. Жить-то на что-то надо.
Что осталось? Экономика вообще не изучена. Очень слабо изучена финансовая политика. На какие деньги велась война? Даже корпус Воронцова во Франции содержался на наши деньги. Это вообще нонсенс. Неправильно изучено русское общество, с моей точки зрения. Мы привыкли слышать про «детях 1812 года», что офицеры видели Европу, восхищались, а потом возвращались в Россию декабристами. Документы говорят, что Европа офицерам не нравилась. В Париже не нумерованы кресла в театрах! Ты встал поздороваться с кем-нибудь, а возвращаешься, а твое место уже заняли. Дикий народ! Офицерам запретили участвовать в дуэлях, а ведь их провоцировали. Уйти от дуэлей было очень трудно. Воронцову пришлось огромные усилия прилагать. То есть, людей тяготило пребывание во Франции. Самое тяжелое наказание было — не вернуться сразу домой. 300-400 дезертиров набралось за войну. Они все хотели вернуться на родину. Их собрали, надо бы судить, но их простили. Но включили, в наказание, во оккупационный корпус во Франции.
Отечественная война 1812 года изучается в исторической науке очень давно. На эту тему выпущено более 10 тыс. книг и статей. История Отечественной войны 1812 г. по-прежнему привлекает устойчивый интерес исследователей.
Дворянские историки войны 1812 г. стояли на субъективно-идеалистических позициях. Дворянская концепция войны рассматривала ее как войну великих полководцев Александра I и Наполеона. Они пытались в своих работах доказать решающую роль в победе над Наполеоном Александра Благословенного, а также «единение сословий вокруг престола». Таковы были работы генералов Д. П. Бутурлина, А. И. Михайловского-Данилевского (адъютанта Кутузова), М. И. Богдановича.
*I Декабристы, бывшие непосредственными участниками Отечественной войны 1812 г., считали ее войной не генералов, а «народной». Революционеры-демократы указывали на народный характер войны, а также на ее влияние на развитие либерализма в России. В. Г. Белинский оценивал ее как войну отечественную, освободительную. Именно поэтому война породила столь мощный патриотический подъем, явившийся источником победы, и имела важные исторические последствия (зарождение корней декабризма). А. И. Герцен видит причину войны в завоевательной политике Наполеона, стремившегося к мировому господству. Герцен считает войну 1812 г. для русского народа справедливой войной за сохранение национальной независимости, в которой ярко проявилась активная, творческая роль народных масс в истории, их героизм.
Отечественные буржуазно-либеральные исследователи (А. Н. Попов, Военский, В. И. Харкевич, А. А. Корнилов) делали упор на экономический фактор, сопоставление экономик двух противников. 58
После 1917 г. М. Н. Покровский и его последователи начали в самых решительных выражениях отрицать народный характер войны с Наполеоном, утверждая, что эта война велась Россией исключительно в интересах дворянской верхушки. М. Н. Покровский всю ответственность за начало войны возлагал на Россию, а для Наполеона война была лишь необходимой обороной. Одновременно было официально отвергнуто определение войны 1812 г. как Отечественной.
Лишь незадолго до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз академик Е. В. Тарле вернул этот термин. В духе новых установок в советской историографии стала активно утверждаться точка зрения, согласно которой война 1812 г. была актом агрессии Франции против миролюбивой России. Капитальный труд Е. В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», опубликованный в 1937 г., на долгие годы стал вершиной советской историографии войны 1812 г. Он утверждал, что война 1812 г. являлась «откровенно империалистической войной, продиктованной интересами захватнической политики Наполеона и крупной французской буржуазии», а «для России борьба против этого нападения была единственным средством сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность». Эти идеи были восприняты другими историками и перешли в учебники и монографии. Однако в дальнейшем отечественные историки нашли недостатки в работах Е. В. Тарле и подвергли его критике за переоценку роли в победе природно-климатических факторов и умаление классовой борьбы.
Великая Отечественная война оказала серьезное влияние на развитие историографии данной проблемы. Со всей полнотой оно проявилось в литературе первого послевоенного десятилетия и в конечном итоге привело к существенной корректировке концепции Отечественной войны 1812г. В итоге 40--50-е годы XX века характеризовались очевидным упадком в освещении этого события. В 1946 г. Сталин заявил, что «наш гениальный полководец Кутузов... загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления», и с этого момента все внимание советских историков сосредоточилось исключительно на личности М. И. Кутузова. Сталин выделил положения о том, что основу полководческого искусства М. И, Кутузова составляли действия на коммуникациях противника, а основной формой ведения боевых действий стало преследование. Мысль о превосходстве кутузовской стратегии затяжных военных действий над наполеоновской стратегией поражения противника в одном генеральном сражении в дальнейшем была развита П. А. Жилиным и Л. Г. Бескровным. Главенствующее положение во вновь скорректированной концепции событий 1812 г. стало отводиться роли в них Кутузова. Полководческое искусство Кутузова признавалось основным фактором в достижении победы над вторгшимся в пределы страны неприятелем. При этом контрнаступление было определено как основная форма военных действий, обеспечившая успех русской армии. В общественное сознание настойчиво внедрялось представление об Отечественной войне 1812 г. как о цепи блестящих побед русской армии, когда русское командование якобы не совершало ошибок. Субъективизм в тот период выражался в фальсификации имевшихся архивных данных о соотношении сил перед войной и потерях сторон в ряде сражений, включая Бородинское.
Первые шаги к разрушению многочисленных стереотипов были предприняты лишь в годы перестройки -- публикациями тех лет, в первую очередь книгами и рецензиями профессора Н. А. Троицкого. Н. Троицкий обращает внимание на то, что практически все цифровые данные о соотношении сил и потерях сторон в 1812 г., вопреки истине, подсчитывались в нашу пользу. Очевидные успехи и победы французского оружия игнорировались. Н. Троицкий отвергает бытующую версию о внезапности нападения Наполеона. Война 1812 г., как подчеркивает историк, явилась 60 продуктом противоречий между буржуазной Францией и феодальной Россией. Н. Троицкий предлагает расстаться и с еще одним мифом -- о Кутузове. Исследователь указывает на роль Барклая-де-Толли, который умелым отступлением спас русскую армию от неминуемого разгрома в первые месяцы войны и уже тогда начал планировать и готовить контрнаступление, впоследствии осуществленное Кутузовым. Нельзя сказать, что эти факты до Н. Троицкого совершенно не были известны -- просто их игнорировали в угоду привычным.
В постсоветские годы влияние идеологии на отечественную историографию войны 1812 г. впервые свелось к минимуму, благодаря чему открылись широкие возможности для научного осмысления этой темы. В 1990-е гг. фактически впервые началось сотрудничество отечественных и западных специалистов по истории войны 1812 г. Современные исследователи событий Владимир Земцов и Олег Соколов изучают мотивацию к победе наполеоновских и русских солдат. Значительное внимание уделяется дипломатической истории эпохи 1812 г. Историки отошли от идеологически окрашенной трактовки истории дипломатии с позиций «агрессивная» --- «миролюбивая». В отечественной историографии возобладала теория национально-государственных интересов в международных отношениях, которая исходит из того, что международная политика, «как и любая политика, есть борьба за власть» (М. И. Мельтюхов и др.).
Главным объектом исследований остаются различные аспекты военной истории. Были пересмотрены и скорректированы версии о роли Смоленской операции, боевых действиях в окрестностях Москвы осенью 1812 г., сражении у Тарутино и др. Историки стали заострять внимание на ошибках, допущенных русским командованием, признавать высокую боевую эффективность армии Наполеона. Относительно итогов Бородинской битвы историки по-прежнему ведут активные споры. Наиболее основательно из военных тем 1812 г. рассмотрена история народной войны и партизанского движения 1812 г.
Наиболее новаторской среди всех постсоветских исследований русской армии 1812 г. стала монография В. М. Безотосного, посвященная атаману М. И. Платову и донскому генералитету в 1812 г. Автор по-новому осветил проблему участия казаков в войне 1812 г. (указал на конфликты казачьих генералов и представителей командования русской регулярной армии, описал поведение казаков во время войны и т.д.). По-новому позволяют взглянуть на военно-политические аспекты истории 1812 г. работы В. М. Безотосного, посвященные разведке и планам России и Франции в 1810---1812 гг.
Говоря о военных итогах кампании, постсоветские историки показывают преобладающую роль небоевых факторов в гибели наполеоновской армии в России (изнурение, голод, болезни, холода), что совершенно отрицалось советской историографией 1940--1980-х гт. Сильно скорректированы данные о численности враждующих армий (по уточненным данным, в Русской кампании с французской стороны участвовало около 560 тыс. человек, а не 600--650 тыс. как считалось ранее, с русской -- около 480 тыс. человек, реально участвовавших в боях).
Современные российские историки (А. И. Сапожников, М. А. Давыдов) обращаются к истории российского общества военного времени. Фактически впервые историки стали показывают людей эпохи 1812 г. живыми людьми, со своими достоинствами и недостатками, а также свойственной всем людям противоречивостью. Специалисты подчёркивают огромную роль, которую играла Русская Православная церковь в 1812 г., фактически она являлась главной и единственной силой, цементировавшей тогдашнее российское общество (Л. В. Мельникова, А. И. Попов).
Постсоветская историография Отечественной войны 1812 г. также представлена группой историков-традиционалистов, придерживающихся основных пропагандистских положений советского и отчасти дореволюционного периода. Для этой группы характерны работы Б. С. Абалихина. Он отстаивает тезис об огромном превосходстве французской стороны при Бородино, обосновывает версию отступления наполеоновской армии на Киев осенью 1812 г., активно доказывает тезис об исключительной вине Александра I в неполном успехе Березинской операции. Его концепции опровергнуты современными исследователями (В. М. Безотосный, О. В. Соколов, А. И. Попов и др.). Можно констатировать, что уже к концу 1990-х гг. влияние традиционалистских традиций историографии резко ослабло.
Введение 4
Международное положение России накануне Отечественной войны 1812 15
§ 1. Причины Отечественной войны 15
§ 2. Военно-экономический потенциал России и Франции и накануне и во время войны. Планы сторон. Периодизация войны 19
Глава II 29
Вторжение «Великой армии» в Россию 29
§ 1. Бой за Смоленск 29
§ 2. Назначение Кутузова главнокомандующим. Формирование народного ополчения и рост партизанской войны 37
§ 3. Бородинское сражение 41
Глава III 55
Отступление «Великой армии» Наполеона и её гибель 55
§ 1. Тарутинский манёвр русской армии. Пожар Москвы 55
§ 2. Партизанское движение и его роль в разгроме наполеоновской армии 65
Военные планы сторон. Наполеон хотел в пограничном сражении разгромить русскую армию и навязать России кабальный мирный договор, предусматривающий отторжение от нее ряда территорий и вхождение в антианглийский политический союз с Францией. 76
Русские войска по плану генерала Фуля предполагали завлечь наполеоновскую армию вглубь страны, отрезать от линий снабжения и разгромить в районе укрепленного Дрисского лагеря. 76
Дипломатическая подготовка. Наполеон создал мощную антирусскую коалицию, в которую входили Австрия, Пруссия, Нидерланды, Италия, герцогство Варшавское, германские государства. Правда, в Испании вспыхнуло мощное народное восстание, отвлекшее на свое подавление значительные военные силы Франции. 76
Россия, вынужденная под нажимом Наполеона объявить в 1808 г. войну Швеции, которая нарушила континентальную блокаду, сумела к 1809 г. одержать победу и по Фридрихсгамскому мирному договору присоединить к себе Финляндию. По Бухарестскому же миру с Турцией (1812 г.) она обезопасила и свой южный фланг. Кроме того, со Швецией накануне наполеоновского вторжения был заключен тайный договор о взаимопомощи, а Турция в годы войны заняла нейтральную позицию, что также можно отнести к успехам русской дипломатии. Однако, кроме Англии, Россия в начале войны не имела союзников. 76
Соотношение вооруженных сил. Французская армия являлась одной из самых сильных в Европе, в том числе потому, что Наполеон отказался от средневековой рекрутчины и ввел всеобщую воинскую повинность с 5-летней службой. “Великой армией” Наполеона, вторгшейся в Россию, кроме французского императора, руководили талантливые полководцы Лан, Ней, Мюрат, Удино, Макдональд и др. Она насчитывала до 670 тыс. чел. и по своему составу была многонациональной. Лишь половину ее составляли французы. Обладая богатым боевым опытом, имея в своих рядах закаленных солдат, в том числе “старую гвардию”, она, в то же время, утратила некоторые качества времен защиты завоеваний революции и борьбы за независимость, превратившись в армию завоевателей. 77
Россия обладала армией в 590 тыс. чел. Но Наполеону она смогла противопоставить около лишь 300 тыс. солдат, рассредоточенных на три основные группы вдоль ее западных границ (армии М.Б. Барклая де Толли, занимавшего, кроме того, пост военного министра, П.И Багратиона и А.П. Тормасова.). Но боевые качества русских солдат, вставших на защиту родины, оказались выше, чем у захватчиков. Главнокомандующим российской армией в начале войны был сам Александр I. 77
Ход военных действий. Первый этап. (От начала вторжения до Бородинского сражения). 12 июня 1812 г. войска Наполеона перешли р. Неман. Их главная задача состояла в том, чтобы не допустить объединения армий Барклая де Толли и Багратиона и разгромить их по отдельности. Отступая с боями и маневрируя, русским армиям с большим трудом удалось соединиться под Смоленском, но под угрозой окружения, после кровопролитных боев 6 августа они вынуждены были оставить разрушенный и горящий город. Уже на этом этапе войны Александр I, пытаясь восполнить нехватку войск и учитывая подъем патриотических настроений общества и народа, издал распоряжения о создании народного ополчения, развертывании партизанской войны. Уступая общественному мнению, он подписал приказ о назначении главнокомандующим русской армии М.И. Кутузова, которого он лично недолюбливал. 78
Таким образом, первый этап характеризовался превосходством сил агрессора, оккупацией российских территорий. Кроме московского направления, наполеоновские корпуса двинулись на Киев, где были остановлены Тормасовым, и на Ригу. Но решающей победы Наполеон так и не добился, ибо его планы были сорваны. Кроме того, война и без манифестов Александра I стала приобретать общенародный, “отечественный” характер. 78
Второй этап (от Бородино до битвы за Малоярославец). 26 августа 1812 г. началось знаменитое Бородинское сражение, в ходе которого французские войска яростно атаковали, а русские - мужественно защищались. Обе стороны понесли тяжелые потери. Впоследствии Наполеон оценивал его как самое “ужасное” из всех, данных им сражений и считал, что “французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми”. Главная цель Наполеона - разгром русской армии - опять не была достигнута, но русские, не имея сил для продолжения битвы, утром отошли с поля боя. 78
Библиография 81
Введение
«В тайниках нашей старины, в сумерках времён давно прошедших, как в сокровенной кладовой богача, заключается много драгоценностей, в исторических свитках наших находится много светлых и мрачных страниц. По лицу земли Русской прошло много разных событий, но ни в средней, ни в новой истории отечества нашего не встречается нашествия, подобного нашествию Наполеона. Оно памятно не только сердцу русских, но и чужеземцам, потому что в 1812 году почти все европейские народы, обрушившись на Россию, играли значительные роли в этой кровавой драме. Сцена была обширна: от реки Сены до Москвы. Многие частные события этих великих годов поглощены временем» 1 - так начинается труд С.М. Любецкого «Русь и русские в 1812 году».
Не за горами 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Народы России, по нашему глубокому убеждению, должны одинаково чтить память и далёких предков, и тех, кто ещё рядом с нами – ветеранов Великой Отечественной войны.
Нам необходимо осознавать своё историческое прошлое, гордиться историческими заслугами нашей страны.
Актуальность исследования обусловлена целым рядом причин – тема Отечественной войны 1812 г. (в западной историографии чаще всего именуемая «Русская кампания» или «Кампания Наполеона в России») традиционно является одной из самых востребованных тем российской истории, по-прежнему привлекающая большой интерес исследователей. Кампания 1812 г. стала одним из ключевых событий европейской истории начала XIX в., её значение трудно переоценить.
Отечественная и мировая историография Отечественной войны 1812 года, Первой и Второй мировых войн насчитывает десятки тысяч книг, статей и документальных публикаций. Говоря о Великой Отечественной войне, современные российские историки подчёркивают: «В нашей стране тема войны всегда была острой и актуальной. Оценивая литературу о войне и отнюдь не отрицая ценности многих из этих трудов, всё же можно констатировать, что сегодня мы испытываем желание во многом по-новому взглянуть на предысторию войны, её ход, последствия и уроки». Эти мысли можно в полной мере отнести и к Отечественной войне 1812 года.
Историческая память – великая сила, нравственная, культурная. Нынешнее поколение русских людей должно воспринимать и продолжать замечательную традицию уважения к нашей истории, к нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто доблестно защищал и спасал нашу Родину от порабощения иноземными захватчиками 2 .
В оценке Отечественной войны 1812 года историки единодушны. 12 июня – 21 декабря – это хронологические рамки Отечественной войны 1812 года. Критерии и подходы ясны: освобождена территория России – Отечественная война закончена, далее начинается заграничный поход русской армии 3 .
Уместно напомнить, что после прихода большевиков к власти советские историки в лице их лидера М.Н. Покровского сначала отбросили даже само название войны 1812 года как Отечественной и лишь в начале 30-х годов вернулись к этому названию. В условиях надвигавшейся новой мировой войны требовалось усиление патриотического воспитания советских граждан, и вождь совершенно справедливо дал «отмашку» на возвращение к великой странице русской истории и чётко отлаженной системе советской пропаганды. Этот процесс закономерен – в канун всё той же Отечественной войны 1812 года русское общество обращалось к знаменательным страницам отечественной истории, черпая там моральные силы для борьбы с приближающейся угрозой наполеоновского вторжения. На сценах русских театров «на ура» шли трагедия Г.Р. Державина «Пожарский, или Освобождение Москвы», пьеса В.А. Озерова «Дмитрий Донской», спектакль В.М. Крюковского «Дмитрий Пожарский», наши предки зачитывались книгой П. Львова «Пожарский и Минин, спасители Отечества».
Историография проблемы богата по своему составу. Этой проблемой заинтересовались давно. Изучение «эпохи 1812 года» началось в XIX в. Представители дворянской историографии (М.И. Богданович, Д.П. Бутурлин, А.И. Михайловский-Данилевский) акцентировали внимание, главным образом, на внешнем описании боевых действий; буржуазные историки (К.А. Военский, А.Н. Попов, В.И. Харкевич и т.д.) предпринимали попытки анализа военных событий 4 .
Существует много спорных вопросов. К примеру, многие отечественные исследователи указывают различное количество потерь русской и французской сторон в Бородинском сражении. Е.В. Тарле в своих работах год и «Нашествие Наполеона на Россию» и «1812 год» приводит такие цифры: потери французов в Бородинском сражении около 50 тыс. человек, русские потери 58 тыс. человек 5 . Другой исследователь Н.Ф. Гарнич утверждает, что французы потеряли 60 тыс. человек, русские 38 500 человек убитыми, ранеными, пропавший без вести 6 . Крупный отечественный историк П.А. Жилин дает другие данные французы более 50 тыс. человек, а русские более 44 тыс. человек. В более поздних исследованиях отмечается, что потери французских войск были во много раз меньше потерь русских. 7 Н.А. Троицкий в своей работе «1812 год. Великий год России» указывает, что потери русских были 45 тыс. человек, французские 28 тыс. человек 8 .
До сих пор идет спор о роли крестьянско-партизанского движения. Исследователи 40-50-х годов XX века склоняются к превышению ее. В частности в работах Н.Ф. Гарнича «1812 год», Л.Н. Бычкова «Крестьянско-партизанское движение в Отечественной войне 1812 года», Бабкина В.И. «Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года» и других показала огромную роль данного движения в войне.
В работах также большое значение отводиться роли Михаила Илларионовича Кутузова как гениального полководца, стратега и дипломата. Ему многие советские исследователи отводили чуть ли не решающую роль. В сентябре 1945 года праздновали 200-летие дня рождения Кутузова и к этой дате было приурочено огромное количество работ о нем (работы Л.Г. Бескровного, Ф.А. Гарина, Н.Ф. Гарнич и др.). В них подробно освещена роль Кутузова в формировании Петербургского, Московского и других ополчений, его отношения к крестьянско-партизанскому движению, его роль в Бородинском сражении, значение его знаменитого Тарутинского марш-маневра и, наконец, его роль в окончательном разгроме наполеоновской армии 9 .
Большое значение для советской исторической науки имело празднование в 1962 году 150-летия разгрома народами России наполеоновской армии. В этот период появляется интерес к документам о народном ополчении, о Бородинском сражении, к частной и военной французской переписке. Интерес к событиям 1812 года не ослаб и в последующие годы. В свет вышли новые исследования. Большое значение в них отводилось анализу работ Е.В. Тарле, П.А. Жилина и других исследователей советского времени. Но была и критика. В частности Тарле в своих работах много внимания уделил ходу войны, причинам, личности Наполеона, но очень мало было написано о роли Кутузова. В монографии «Нашествие Наполеона на Россию» он ярко и глубоко раскрывает все особенности войны, которые трезво аргументированы и свободны от крайностей. Автор объективно оценивал соотношение сил в войне, ставил очень высоко русских военачальников и недооценивал агрессивность царской России после Тильзитского договора, что, по моему мнению, освещает войну несколько однобоко, хотя эта его работа является научной 10 . В отличие от многих работ о войне 1812 г. в этой книге Тарле центральное место занимает рассмотрение роли народных масс в разгроме наполеоновского нашествия. Л.Г Бескровный в «Хрестоматии по русской истории» собрал наиболее важные документы об этой войне, однако в их трактовке он излишне возвеличивал русских и, подобно Е.В. Тарле, переоценивал роль стихийных факторов (голода, климата) в гибели наполеоновской армии 11 .
Работа Н.А. Троицкого «1812г. Великий год России» полностью построена на том, чтобы попытаться разобраться в главных событиях войны и отразить наиболее объективную позицию, что помогало мне разобраться в порой непростых нюансах в ходе написания работы. К тому же Н.А. Троицкий использует при уточнении численности войск труд наиболее объективного в зарубежной историографии автора – Ж. Шамбре 12 .
Небезынтересны публикации последних лет. И хотя не появились фундаментальные исследования и монографии по рассматриваемой теме, краткие упоминания о неизвестных ранее лицах и скрытых до поры событиях могут стать поистине серьёзным катализатором глубоких научных изысканий. В книге А.М. Кручинина «Российский полк с финским именем: Очерки истории Оровайского полка (1811-1920)» содержится краткая биография генерал-майора И.В. Гладкова, сформировавшего в 1812 г. в Твери и в Ростове три резервных полка 13 . В сборнике «1812 год в воспоминаниях современников» опубликованы, извлеченные из архивов, ценнейшие мемуарные рукописи с уникальными сведениями о ранее скрытых сторонах военной и политической жизни России в эпоху 1812 года. В ряду офицерских записок сборника несколько особняком стоят написанные чеканным военным слогом, сжатые, но чрезвычайно ёмкие по содержанию воспоминания знаменитого партизана и адъютанта М.Б. Барклая де Толли в 1812 году А.Н. Сеславина с впечатляющими свидетельствами о личности полководца и некоторых чертах его стоического характера. Они ценны ещё и тем, что дословно воспроизводят собственные оценки Барклаем клеветнических нападок на него в армии и при дворе летом 1812 года. «Великодушие. Барклай в 1812-м году» - так озаглавил А.Н. Сеславин свои воспоминания. 14
Впечатляет обстоятельностью работа М.А. Ильина «Память истории: Тверской край в Отечественной войне 1812 года». Автор привлек большое количество архивных материалов. Фактография по темам тверского народного ополчения, патриотизма населения и партизанских действий в губернии отличается добротностью изложения 15 .
В 1993 году издан сборник научных статей «Война 1812 года и русская литература» под редакцией М.В. Строганова. В сборник включены материалы и исследования о связях русских писателей XIX века с темами и проблемами, порождёнными войной 1812 года 16 .